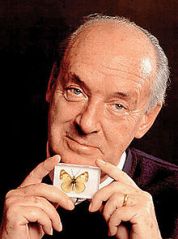Пока черемухи влиянье
на ум – за ум я приняла,
что сотворим – она ли, я ли –
в сей месяц май, сего числа?
Души просторную покорность
я навязала ей взамен
отчизн откосов и околиц,
кладбищ и монастырских стен.
Всё то, что целая окрестность
вдыхает, – я берусь вдохнуть.
Дай задохнуться, дай воскреснуть
и умереть – дай что-нибудь.
Владей – я не тесней округи,
не бойся – я странней людей,
возьми меня в рабы иль в други
или в овраги – и владей.
Какой мне вымысел надышишь?
Свободная повелевать,
что сочинишь и что напишешь
моей рукой в мою тетрадь?
К утру посмотрим – а покуда
окуривай мои углы.
В средине замкнутого круга –
любовь или канун любви.
Нет у тебя другого знанья:
для вечных наущений двух,
для упованья и терзанья
цветет твой болетворный дух.
Уже ты насылаешь птицу,
чье имя в тайне сохраню,
что не снисходит к очевидцу,
чей голос не сплошной сравню
с обрывом сердца, с ожиданьем
соседней бездны на краю,
для пробы, с любопытством дальним,
на миг втянувшей жизнь мою
и отпустившей, – ей не надо
того, чему не вышел срок.
Но вот ее привет из сада
донесся, искусил и смолк.
Во что, черемуха, играем –
я помню, знаю, что творим.
Уж я томлюсь недомоганьем
всемирно-сущим – как своим.
Твой запах – вкрадчивая сводня, –
луна и птицы ведовство
твердят, что именно сегодня,
немедленно... но что? Да всё!
Вся жизнь, всё разрыванье сердца –
сейчас, не припасая впрок.
Двух зорь сплоченное соседство
теснит мой заповедный срок.
Но пагубою приворота
уста я напитаю чьи?
Нет гостя, кроме самолета
в необитаемой ночи.
Продлится за моею шторой
запинка быстрых двух огней,
та доля вечности, которой
довольно выдумке моей.
Что Паршино ему, Пачёво,
Ладыжино, Алекино́?
Но сердце летчика ночного
уже любить обречено
свет неразборчивый. Отныне
он станет волен, странен, дик.
Его отринут все родные.
Он углубится в чтенье книг.
Помолвку разорвет, в отставку
подаст – нельзя! – тогда в Чечню,
в конец недоуменья, в схватку,
под пулю, неизвестно чью.
Любым испытано, как властно
влечет нас островерхий снег.
Но сумрачный прищур Кавказа
мирволит нам в наш скушный век.
Его пошлют, но в санаторий.
Печаль, печаль. Наверняка
от лютой мирности снотворной
он станет пить. Тоска, тоска.
Нет, жаль мне летчика. Движеньем
давай займем его другим.
Спасем, повысим в чине, женим,
но прежде – разминемся с ним.
Черемуха, на эти шутки
не жаль растраты бытия.
Светает. Как за эти сутки
осунулись и ты, й я.
Слабеет дух твой чудотворный.
Как трогательно лепестки
в твой день предсмертный, в твой четвертый
на эти падают стихи.
Весной, в твоих оврагах отчих,
не знаю: свидимся ль опять?
Несется невредимый летчик
ночного измышленья вспять.
Пошли ему не ведать муки.
А мне? Дыханья перебой
привносит птица в грусть разлуки
с тобой, и только ли с тобой?
Дай что-нибудь! Дай обещанья!
Дай не принять мой час ночной
за репетицию прощанья
со всем, что так любимо мной.
1981
Из сб. Гряда камней, с. 170-173.
| 
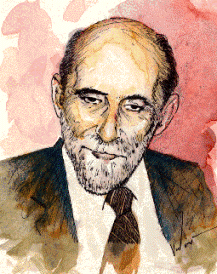
 С той поры, как здесь утвердилась весна, каждый вечер мы приходим сюда поглядеть на одиночество
этого прекрасного старого дерева. Оно живет около первого дома на Пятой Авеню, совсем недалеко от дома, где
жил Марк Твен, в этом милом месте, где не так иллюминировано, не так людно,– и вплываешь, как в тихую
заводь, в синюю свежую ночь Washington
Square, в которой, словно в озере, купаются чистые звезды, чуть потревоженные далекими отсветами
какой-нибудь унылой рекламы (“Germanian”), а ей все равно не затмить этой ночи, древнего корабля
в беспросветном море.
С той поры, как здесь утвердилась весна, каждый вечер мы приходим сюда поглядеть на одиночество
этого прекрасного старого дерева. Оно живет около первого дома на Пятой Авеню, совсем недалеко от дома, где
жил Марк Твен, в этом милом месте, где не так иллюминировано, не так людно,– и вплываешь, как в тихую
заводь, в синюю свежую ночь Washington
Square, в которой, словно в озере, купаются чистые звезды, чуть потревоженные далекими отсветами
какой-нибудь унылой рекламы (“Germanian”), а ей все равно не затмить этой ночи, древнего корабля
в беспросветном море.