 Шкатулка Розы Мира
Шкатулка Розы МираГлавная | Описание | Библиотека | Новости | Гостевая | Книга консультанта
Андреевская энциклопедия | Скифопедия
 Шкатулка Розы Мира
Шкатулка Розы Мира
Текст и иллюстрации в настоящем электронном издании даются по полиграфической книге: Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой; Вступ. ст. С.Г. Семеновой; Предисловия к текстам С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой; Примечания А.Г. Гачевой; Художник С.А. Кравченко. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с., ил. – Пер. 50.000 экз.

Пагинация, проставленная в книге, здесь дана в скрытом виде, в форме сиреневых буквиц.
Пристраничным сноскам присвоена сквозная нумерация, и они вынесены в конец веб-страницы.
Текст полиграфического издания дополнен:
1) рецензией Е. Ознобкиной // Новый мир. – 1994. – № 2. – (Коротко о книгах); http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/2/oknig.html;
2) эпиграфами к биографическим статьям данной антологии (их 17), размещенными на сайте Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова http://www.nffedorov.ru/mbnff/biblio/knigi/sbrukos.html. Эти эпиграфы выделены у нас уменьшенным шрифтом сиреневого цвета. К сожалению, помимо такого удачного нововвведения, указанный сайт оставляет желать лучшего в смысле качества. Текст изобилует невыправленными ошибками распознавания; в нем отсутствуют крупные куски, например, Письмо 7-е, главки 65 и 67 в «Мыслях натуралиста», текст сноски *156; вместе с тем, столь же крупные куски даются дважды, как, например, 3 абзаца «Гипотезы биополевой формации...» (не дана и разбивка этой статьи на абзацы соответственно полиграфическому изданию). Несколько мелких частей основного текста попало в состав сносок. Вместе с этими ошибками текст антологии скопирован и другими сайтами Интернета; чистый текст отсутствует. Но в нашем электронном издании мы предлагаем читателю текст без указанных огрехов;
3) Пятью содержаниями второго уровня ![]() , облегчающими навигацию по странице.
, облегчающими навигацию по странице.
Всем 17 биографическим статьям присвоен статус статей Скифопедии класса ВСС1, а некоторым сноскам – класса ВСС2, равно как и статьям Скифопедии, составившим заключительный раздел данной веб-страницы. Большинство из ВСС содержат матрицы.
Способен ли человек, ощутив себя частицей Вселенной, преобразить собственную природу, внешний мир и обрести бессмертие? Этот вековечный вопрос – мечта землян – в центре внимания представителей уникального космического направления философской мысли России.
В первую антологию русского космизма включены работы А.В. Сухово-Кобылина, Н.Ф. Федорова, Н.А. Умова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. Муравьева и других выдающихся русских мыслителей XX в.
Издание иллюстрировано, снабжено аналитической вступительной статьей, предисловиями к текстам и примечаниями.
Для широкого круга читателей.
Антология, составленная известной исследовательницей творчества философа Н.Ф. Федорова С.Г. Семеновой совместно с А.Г. Гачевой, не просто предоставляет возможность встретиться с целым рядом известных и малоизвестных русских мыслителей, увидеть некоторых из них подчас с необычной стороны, но имеет и сверхзадачу: продемонстрировать общность этих мыслителей как теоретиков космизма – особого, «уникального» направления русской научной и философской мысли XIX–XX веков.
В антологии представлены тексты и отрывки из текстов В.Ф. Одоевского, А.В. Сухово-Кобылина, Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, Н.А. Умова, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.Н. Муравьева, А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Г. Холодного, В.Ф. Купревича, А.К. Манеева. Согласитесь – внушительный состав участников привлечен составителями под знамена космизма!
В философском наследии таких мыслителей, как В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, составитель и автор подробного предисловия С.Г. Семенова выделяет линию, «близкую пафосу идей русского космизма», обозначая ее как «активно-эволюционную». «Человек для активно-эволюционных мыслителей, – пишет она, – существо еще промежуточное, находящееся в процессе роста, далеко не совершенное, но вместе сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу».
Однако это все еще весьма общий признак «направления», под который можно с успехом «подвести» едва ли не большую часть европейской философии, и уж точно – философию Нового времени, классику XIX века, включая Гегеля, Маркса и даже Ницше, вряд ли желанного в подбираемой компании космистов...
И здесь, видимо, призван спасти положение другой критерий: «...субъектом планетарного и космического преобразовательного действия признается не отдельный человек, а соборная совокупность сознательных, чувствующих существ, все человечество в единстве своих поколений». У «штурвала эволюции» должно стоять «целокупное человечество».
Возможно, что у всех собранных в антологии авторов можно найти и то, что выглядит достаточным основанием привлечь их в национальную партию космизма и использовать в программе «расширения прав сознательно-духовных сил, управления духом материи, одухотворения мира и человека», тем более что на это теперь уже не надо спрашивать персонального согласия. И все же мне кажется, что каждый из рекрутированных мыслителей прежде всего существен в своем отдельном бытии. Свидетельство тому – сами тексты, которые действительно очень тщательно, удачно и с большим знанием предмета подобраны составителями.
Хочу обратить внимание читателей на некоторые из представленных в книге фигур.
Из литературного наследия князя В.Ф. Одоевского (1803–1869) составители выбрали для антологии главы из романа-утопии «4338 год». Достижения высокой научно-технической цивилизации и просвещения накануне гибели: астрономы исчислили год катастрофы – встреча с Землей кометы Вьела должна произойти через год после описываемых в романе событий. Мертвая природа должна победить жизнь на Земле, ибо «природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие», человеческие орудия оказываются несоизмеримы с умственной целью.
А.В. Сухово-Кобылина (1817–1903) читатель сможет узнать с совсем неизвестной для себя стороны. Автор сатирической трилогии более сорока лет жизни посвятил философскому творчеству: переводил Гегеля и пытался построить свое собственное учение – о «Всемире». В антологии помещены отрывки из грандиозной, лишь частью дошедшей до нас незаконченной работы «Философия духа или социология (учение Всемира)». Этот любопытнейший труд, безусловно, достоин возможно полной и комментированной публикации. Говоря о «летании», «автокинии», Сухово-Кобылин своеобразно перекликается с Н.Ф. Федоровым, выдвигавшим идею овладения пространством. И Сухово-Кобылин и Н.Ф. Федоров захвачены пафосом освобождения человека от уз пространства. Нуль пространства, точка, точечность, исхождение в дух – таковой видится им цель эволюции человеческого рода.
Физик-теоретик, «первейший русский физик-философ», профессор Одесского, а затем Московского университетов Николай Алексеевич Умов (1846–1915) рассуждает о homo sapiens explorans – человеке разумном исследующем, способном, опираясь на могущество машины, победить время, человеческое несовершенство и хаос природы.
Антология знакомит читателя с центральными работами последователей учения Н.Ф. Федорова – В.Н. Муравьева (1885–1932), А.К. Горского (1886–1943), Н.А. Сетницкого (1888–1937), после 30-х годов практически забытых и не печатавшихся.
Вряд ли известен широкому читателю и автор «Мыслей натуралиста о природе и человеке» Н.Г. Холодный (1882–1953) – биолог, коллега Вернадского, разработчик идеи антропосферы, решительно чуждый утопизма.
Антология снабжена предисловиями к авторским текстам и примечаниями, что, безусловно, ставит книгу в разряд добротных профессиональных изданий.

|
Восходящая эволюция Ноосферные задачи Метаморфоза любви Выход человека из «его заключения на Земле» [Заключение] |
Еще несколько лет назад понятие русского космизма, как и почти ему синонимичное – космической философии, брали неизменно в кавычки как приблизительное, чуть не метафорическое образование. Сейчас русский космизм уже основательно окреп в своих правах, обрел законное гражданство в отечественном культурном наследии. Однако объем и содержание этого понятия и стоящего за ним течения мысли остаются весьма расплывчатыми, то существенно разбухая, то, напротив, сужаясь до трех-четырех имен. Под космизмом часто понимается целый поток русской культуры, включающий не только философов и ученых, но и поэтов, музыкантов, художников. В нем оказываются и Ломоносов, и Тютчев, и Вячеслав Иванов, и Скрябин, и Рерих, и Чюрлёнис... Есть некое космическое веяние и дыхание в произведениях того или иного творца – и этого оказывается достаточным, чтобы произвести его в космисты. Но тогда то же можно было бы спокойно проделать с доброй половиной культурных деятелей не только России, но и всего мира, ведь ощущение глубинной причастности сознательного существа космическому бытию, мысль о человеке как микрокосме, в стяженном виде вместившем в себя все природные, космические стихии и энергии, проходят через мировую культуру, как восточную, так и западную. В древнейших религиозных и мифологических представлениях человек уже прозревал соотношения и взаимосвязи между своим существованием и бытием Вселенной и эту свою интуицию претворял в различные, преимущественно образные, формы. Космические символы и образы народного бытового искусства и поэзии, микро- и макрокосмические соответствия (вспомним, что и мир мог представляться в виде Огромного Человека, Брамы у индусов и т.д.) выражали эту, условно говоря, объективную идею целостности мироздания, органичной включенности в него жизни и сознания. Но рядом всегда существовал и более активный подход, являлось стремление воздействовать на мир в желательном направлении. Многообразные магические ритуалы, которыми была заполнена жизнь древнего человечества, подтверждают это пусть наивно, но впечатляюще: человек вставал против Вселенной как власть имеющий, заклинатель и повелитель материи, ее сил и «духов». Преображающая человека и мир мечта стремилась к преодолению ограниченности человека в пространстве и времени, она воплощалась в сказочные, фольклорные образы господства над стихиями – воздушные полеты, метаморфозы вещества, живую и мертвую воду... По существу, с древности до конца XIX в. эта космическая – в широком смысле – тема развивалась только в мифе, фольклоре, поэзии, а также в некоторых философско-утопических, фантастических произведениях (к примеру, у Сирано де Бержерака, Жюля Верна).
Но знаменательно, что именно в России, ставшей родиной научного учения о биосфере и переходе ее в ноосферу и открывшей реальный путь в космос, уже начиная с середины прошлого столетия вызревает уникальное космическое направление научно-философской мысли, широко развернувшееся в XX в. В его ряду стоят такие философы и ученые, как Н.Ф. Федоров, А.В. Сухово-Кобылин, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, В.Н. Муравьев, А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, Н.Г. Холодный, В.Ф. Купревич, А.К. Манеев. В философском наследии мыслителей русского религиозного возрождения – В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева – также выделяется линия, близкая пафосу идей русского космизма. Имеется в виду то склонение в русской православной философии, которое Н.А. Бердяев называл «космоцентрическим, узревающим божественные энергии в тварном мире, обращенным к преображению мира» и «антропоцентрическим... обращенным к активности человека в природе и обществе»01. Именно здесь ставятся «проблемы о космосе и человеке», разрабатывается активная, творческая эсхатология, смысл которой, по словом Бердяева, в том, что «конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека»02.
Избежать неправомерного и безмерного расширения этого философского течения можно, если сразу же обозначить принципиально новое качество мироотношения, которое является определяющей его генетической чертой. Это идея активной эволюции, т.е. необходимости нового сознательного этапа развития мира, когда человечество направляет его в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство, берет, так сказать, штурвал эволюции в свои руки. Поэтому возможно точнее будет определить это направление не столько как космическое, а как активно-эволюционное. Человек для активно-эволюционных мыслителей – существо еще промежуточное, находящееся в процессе роста, далеко не совершенное, но вместе сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу. Речь по существу идет о расширении прав сознательно-духовных сил, об управлении духом материи, об одухотворении мира и человека. Космическая экспансия – одна из частей этой грандиозной программы. Космисты сумели соединить заботу о большом целом – Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запросами высшей ценности – конкретного человека. Недаром такое важное место здесь занимают проблемы, связанные с преодолением болезни и смерти и достижением бессмертия. Гуманизм – одна из самых ярких черт этой замечательной плеяды мыслителей и ученых, но это гуманизм не прекраснодушный и мечтательный – он основан на глубоком знании, вытекает из целей и задач самой природной, космической эволюции.
Огромен и конкретен вклад в активно-эволюционную мысль В.И. Вернадского. Его научно-философские теории можно в определенном смысле уподобить прочному фундаменту, без которого дерзновенные идеи и проекты космистов могли бы обернуться прекрасными, но всего лишь воздушными замками.
В 1920 г., работая над созданием биогеохимии, призванной изучать влияние «живого вещества» на историю земных химических элементов, Вернадский (к этому времени уже известный минералог, геолог и химик) исследует огромную литературу по первой составляющей этого нового синтеза – биологии (дисциплины, которой прежде он прямо не касался). И тут его умный взгляд и чуткая интуиция великого натуралиста-мыслителя выхватывают среди теорий и догадок прошлого одно неоцененное открытие. Речь идет об открытии американского ученого Джеймса Дана (1813- 1895), известного в свое время геолога и минералога. Этот современник Дарвина на восемь лет ранее выхода в свет в 1859г. эпохального «Происхождения видов...» выдвинул понятие, которое назвал энцефалозом или цефализацией (от греч. kephalē – «голова»). Излагая современным языком эту идею, Вернадский писал: «В наших представлениях об эволюционном процессе живого вещества мы недостаточно учитываем реально существующую направленность эволюционного процесса»03. С эпохи кембрия, когда появляются зачатки центральной нервной системы, и далее идет медленное, пусть с остановками, но неуклонное (без откатов назад) усложнение, усовершенствование нервной системы, в частности головного мозга. Убедительно доказывают это палеонтологические данные, прослеживаемые за последние пятьсот миллионов лет, хотя сам процесс уходит намного дальше в глубь геологического времени. От моллюсков до «гомо сапиенс» это нарастающее движение неотразимо обнаруживает себя. Удивительно, замечал Вернадский, что не только Дарвин не оценил идеи своего североамериканского коллеги: она вообще выпала из научного обихода биологии. Впрочем, были на то причины. Свой вывод Дана, профессор Йельского университета в Нью-Хейвене, развивал больше на территории философии и теологии, а уж сюда направлялась особая идейная бдительность пуритан Новой Англии. Результатом стал острый конфликт этой идеи с суровым религиозным догматизмом, царившим в штате, и цефализация была утоплена для научного обсуждения и развития почти на семьдесят лет. Вернадский извлекает ее из забвения, осмысливает в четкой эволюционной перспективе и вводит в науку под именем «принцип Дана».
Не забывает он отметить и заслуги современника и соотечественника Дана геолога Джозефа Ле Конта, который тот же процесс особой направленности эволюции, отсчитываемый от возникновения нервной системы у живых существ до появления человека, назвал психозойской эрой. «Принцип Дана», цефализация – это не теория, но и не гипотеза, которая может быть доказана, а может и нет. Тут мы имеем дело с эмпирическим обобщением, т.е. с большой суммой точных фактов, не имеющих случаев опровержения. Спорить против эмпирического обобщения бесполезно, его можно лишь по-разному истолковать, ставить в те или иные ряды объяснения. Сам Вернадский четко формулирует характер и смысл такой «кривой прямой линии» развития живого. Это объективный природный процесс, закономерно длящийся в полярном векторе времени, устремляясь постоянно в одном, необратимом направлении.
В теории эволюции, как известно, выдвигались различные причины происхождения животных видов, их смены и развития, в основном сводимые к тому или иному сочетанию изменчивости и наследственности, пластичного приспособления организмов к среде и сложных генетических, мутационных законов. Последовательное же совершенствование нервной, мозговой ткани, приведшее к созданию человека, по меньшей мере, намекает на спонтанные импульсы самой эволюции, на ее внутренние закономерности, на, если хотите, некую ее «идеальную» программу, стремящуюся к своей реализации. Интересно, что именно геологи впервые научно выразили и представление о колоссальном значении человека, его трудовой, творческой деятельности в активном преобразовании планеты. Независимо друг от друга американец Чарлз Шухерт и А.П. Павлов, оба геологи, в начале нашего столетия пришли к выводу, что с появлением человека историю Земли необходимо выделить в особую геологическую эру: Шухерт вслед за Ле Контом определяет ее как психозойскую, Павлов – как антропогенную. Вернадский вспоминает и их предшественников: основатель современной гляциологии Агассис в середине прошлого века говорил об эре человека, а прежде, в XVIII в., Бюффон – о царстве человека.
Но в философии и до них Вернадский видит мысли, предчувствия, связанные с пониманием жизни, ее места и роли во Вселенной, которые могут быть соотнесены с современными научными выводами о живом веществе, об антропогенной геологической эре, о будущей роли человека. Достаточно вспомнить замечательного русского мыслителя XVIII в., который задолго до Дарвина и Дана был движим в своих размышлениях о судьбе и предназначении человека глубинными эволюционными интуициями и приходил при этом к новым, смелым выводам. Откроем основное философское произведение А.Н. Радищева (1749–1802) «О человеке, его смертности и бессмертии» (1792). Для него человек – верхняя ступень лестницы постепенного совершенствования природных существ. В нем все стихии и возможности природы сошлись вместе, чтобы создать ее венец. Человек отличается от всех прочих природных существ прежде всего творческим характером своей природы, тем, что он сам себя создает, начиная с первого акта своей самодеятельности – когда принимает вертикальное положение. Само несовершенство его физической организации становится мощнейшим побуждением к развитию. Глубоко прочувствовав и выразив восходящий характер эволюции от низших ко все более высоким формам, русский мыслитель исторгает из себя замечательный риторический вопрос, которому никогда не дает иссякнуть человеческое сердце: «Но неужели человек есть конец творению? Ужели сия удивления достойная постепенность, дошед до него, прерывается, останавливается, ничтожествует? Невозможно!..»04. И такие обретенные человеком уникальные, высшие свойства, как разум, духовность, сердечность, большей частью поглощаясь низменной борьбой за материальные условия жизни, не достигают ни настоящего развития, ни полного истинного применения. А ведь именно эти драгоценные способности определяют человека как особое существо в мире. Немецкий просветитель XVIII в. Гердер в сочинении «Идеи к философии истории», повлиявшем на взгляды Радищева, писал: «Странно поражает нас, что из всех обитателей Земли человек – далее всего от достижения цели своего предназначения». Объективная неизбежность дальнейшего развития самого человека для обретения им высшей, «богоподобной гуманности» вытекает для Гердера и для Радищева из того импульса к совершенствованию, который пронизывает становление мира жизненных форм. Субъективная же необходимость диктуется ощущением смертного человека, что за время своего существования он только починает свои духовные возможности, для которых впереди мог еще расстилаться бесконечный путь. Внутренние, душевно-духовные силы человека как будто требуют для себя иного, по словам Гердера, «органического строя». Преображенная новая природа, считают и русский и немецкий философы, не может не ждать человека, в ней-то наконец и распустится медленно созреваемый «бутон человечности». В этих размышлениях и активное неприятие промежуточной, противоречивой, бесконечно двоящейся между данным и должным натуры человека, и призыв к нему «обрести необходимую ступень света и уверенности, положив на это свой труд...»05.
Эта же эмоциональная мысль, эта же мечта, движимая сходной эволюционной логикой, звучит у всех мыслителей-космистов в различном контексте, философском, религиозном или научном, как у того же Вернадского. Объективно констатируемая направленность развития живого не может прекратить свое действие на человеке в ныне существующей, еще далеко не совершенной природе. «Мы могли бы это предвидеть из эмпирического обобщения из эволюционного процесса. Homo sapiens не есть завершение создания, он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее»06. «Прогресс организмов шел непрерывно и не может поэтому остановиться на человеке», – утверждал Циолковский; «Человек не есть “венец творения”», – убежден Вернадский; за сознанием и жизнью в нынешней форме неизбежно должны следовать «сверхсознание» и «сверхжизнь», верят по существу все активно-эволюционные мыслители.
Идеал обо́жения, развитый в религиозной ветви русского космизма, также предполагает трансцендирование, превозможение человеком и человечеством его наличной физической, душевной и духовной природы и стяжание высшего, бессмертного, преображенного Божественного бытия. У этой ветви – своя традиция мысли, связанная с той христианской антропологией, которая сложилась у ряда отцов церкви и особенно ярко выразилась в учении о божественных энергиях св. Григория Паламы (XIV в.), византийского богослова и церковного деятеля. Не только Бог, учил Григорий Палама, будучи по своей сущности непостижимой, неопределимой, трансцендентной реальностью, нисходит своими энергиями, своими действиями в мир для спасения человека, но и последний, неся в себе образ и подобие Божие, может в особом акте выхода из себя, вознесения над собственной тварной природой, уже сейчас, еще на Земле, увидеть «нетварный свет», самого Бога, – иначе говоря, способен физически предвосхитить то, что должно стать по благодати и природой самого человека. Эту же мысль выражает и знаменитый афоризм выдающегося богослова и мыслителя IV в. Василия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Русские религиозные мыслители конца XIX-XX в. разработали уже цельную концепцию богочеловечества как соборного, все человечески-космического обо́жения (макрообо́жения, по выражению современного исследователя С.С. Хоружего).
Идеи Вернадского о живом веществе, о космичности жизни, о биосфере и переходе ее в ноосферу своими творческими корнями уходят в новую, начавшую активно создаваться с конца XIX – начала XX в. философскую традицию осмысления явления Жизни и задач человека как вершинного ее порождения. Однажды, размышляя о возникшей в это время атмосфере «неудовлетворения узкими размерами Земли и даже Солнечной системы, искания мировой космической связи», выразившейся, в частности, в романных утопиях, Вернадский заметил следующее: «Оно (это неудовлетворение. – С. С.) сказывается в увеличении значения этих идей в некоторых философских исканиях конца XIX – начала XX в. у философов различной подготовки, например, с одной стороны, у Бергсона, а с другой – у таких искателей истины, как, например, Н.Ф. Федоров»07.
В книге «Творческая эволюция» (1903) Бергсон выдвинул новую в западной философии идею: жизнь – такая же вечная составляющая бытия, как материя и энергия, а разворачивание жизни – процесс космический, движимый внутренним творческим «порывом». Такое видение было особенно близким Вернадскому. Французский мыслитель развивал только еще начавшее утверждать себя положение о фундаментальном антиэнтропийном качестве живого. Он разворачивает грандиозную панораму нарастающего эволюционного вала жизни. Поэтическими красками представлена картина того, как энтропийным силам упрощения, дезорганизации, распада, царящим в мировой материи, противостоит тенденция к увеличению порядка, организации, связанная с потоком жизни и сознания. Разумная деятельность человечества при этом выходит в авангард зоны накопления энергии, творческой мощи, стремящейся к одухотворению и преобразованию мира: «Все живые существа держатся друг за друга и все подчинены одному и тому же гигантскому порыву. Животное опирается на растения, человек живет благодаря животному, а все человечество во времени и пространстве есть одна огромная армия, движущаяся рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, способная своею мощью победить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, в том числе, может быть, и смерть»08.
Бергсон ввел новое определение человека, которое впоследствии широко употреблял Вернадский: homo faber – человек-ремесленник, человек, созидающий искусственные вещи и орудия. А искусственное есть тот исключительно человеческий вклад в наличность мира, который расширяет способности и возможности самого человека, как бы продолжает его органы и дает ему новые: автомобиль – быстрые ноги; микроскоп и телескоп – невероятно усилившееся зрение; самолет, ракета – несуществующие крылья и т.д. «Потребность в творчестве», по Бергсону, определяет жизненный порыв в целом, а в человеке достигает своего апогея. Человек – «исключительный успех жизни», но так же, как у Вернадского, еще не ее венец. Творческие способности человека должны обернуться и на него самого, раздвинуть его еще ограниченное, преимущественно рациональное сознание. Пределы не поставлены.
В те же годы, когда появилась «Творческая эволюция», в России первый русский физик-теоретик Н.А. Умов, о котором Вернадский писал как о «крупном, недостаточно оцененном ученом-мыслителе», по-своему развивает близкие идеи о «силе развития», направляющей живое ко все большему совершенствованию сознания, об антиэнтропийной сущности жизни (он даже предлагал ввести третий закон термодинамики, приложимый к областям жизни и сознания), наконец, о творческой природе человека. Предложенное им объяснение роста творческого потенциала эволюции просто и остроумно. Чем создание элементарнее, тем оно, так сказать, комфортабельнее, «блаженнее» слито со средой. По мере же развития для него во внешней природе обнаруживается все более «препятствий и недочетов», она все менее удовлетворяет нуждам усложнившегося в своих функциях и строении организма, и он вынужден все усиленнее приспосабливать среду к себе, начинать «работать» (вначале инстинктивно) с веществом мира, формировать, строить его (те же гнезда и норы животных). «С возрастающим в ряде живых существ усложнением жизни должна поэтому возрастать и способность к творчеству и ее последовательный переход от бессознательных к сознательным актам»09. В человеке этот процесс – уже его определяющая родовая черта. В недрах человечества, считает Умов, вызревает новый эволюционный тип – homo sapiens explorans (человек разумный, исследующий), стоящий на гребне эволюции, девиз которого – «Твори и созидай!».
Интересно, что к своим выводам Умов приходит из противоположного Бергсону (и Вернадскому) представления о происхождении жизни. Ссылаясь на ничтожнейший, почти нулевой процент живой материи во Вселенной, Умов считал, возникновение жизни совершенно маловероятным событием. Тем не менее она смогла осуществиться на нашей планете только потому, что это произошло не в «ограниченной материальной системе», а «в системе беспредельной», каковой является весь космос. Тем самым ученый подразумевает: вся Вселенная каким-то образом «работала» на это великое рождение, создав невероятно сложное, уникальное сочетание факторов в одном месте. Оказывается, и такая онтологическая посылка единственности жизни и сознания на Земле должна не приводить человечество в отчаяние, а, напротив, усиливать его нравственную ответственность перед чудом жизни, перед всей эволюцией, всей Вселенной.
Со своим призывом к творческой регуляции эволюционного процесса Умов был в России не один. Родоначальником всей активно-эволюционной, космической мысли в России был как раз «искатель истины» Н.Ф. Федоров с его учением «общего дела». «Изумительным философом» назвал Циолковский Федорова в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти (основоположник практической космонавтики вспоминал «необыкновенного библиотекаря», своего первого учителя по московским «университетам» самообразования, заронившего в него живые семена космической мечты). И действительно, было перед чем изумиться! Недаром среди глубоко пораженных и заинтересованных учением Федорова были такие его современники, такие могучие умы и таланты, как Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев. «Философия общего дела» (под этим названием вышли посмертно труды Федорова) открывала перед человечеством невиданные дали, призывала к титаническому преобразовательному дерзанию. «Порожденный крошечною Землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем». «Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою». «В регуляции же, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим». «Должна быть умерщвлена, наконец, и смерть сама – самое крайнее выражение вражды, невежества и слепоты, т.е. неродственности». «Все должны быть познающими и все – предметом знания». Признав внутреннюю направленность природной эволюции ко все большему усложнению и, наконец, к появлению сознания, Федоров приходит к следующей дерзновенной мысли: всеобщим познанием и трудом человечество призвано овладеть стихийными, слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый, бессмертный космический статус бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («имманентное воскрешение»). Сознательное управление эволюцией, высший идеал одухотворения мира раскрывается у Федорова в последовательной цепочке задач: это регуляция «метеорических», космических явлений; превращение стихийно-разрушительного хода природных сил в сознательно направленный; создание нового типа организации общества – «психократии» на основе сыновнего, родственного сознания; работа над преодолением смерти, преобразованием физической природы человека; бесконечное творчество бессмертной жизни во Вселенной. Для исполнения этой грандиозной цели русский мыслитель призывает ко всеобщему познанию, опыту и труду в пределах реального мира, реальных средств и возможностей при уверенной предпосылке, что эти пределы будут постепенно расширяться, доходя до того, что пока кажется еще нереальным и чудесным.
Ни в одном из идеалов, которые до сих пор выдвигало человечество как свою высшую цель, не призывались действительно все до одного на единое дело, касающееся всех, и не только живущих, но и всех умерших, и всех тех, кому жить, и, наконец, всего в мире, всей природы и далее всей Вселенной. Говоря философским языком, у Федорова в субъекте все, а в объекте всё, с тем чтобы всеобщим трудом и творчеством достичь всего, что представляется человеку наивысшим благом. Необычно важна для русского мыслителя идея истинного коллективизма («Жить со всеми и для всех»), направленного на общего врага всех без исключения: смерть, разрушительные стихийные силы; тут кроется источник его безграничного оптимизма: все, одушевленные высшей целью, касающейся конкретно каждого, могут невероятно много, фактически всё.
Новый грандиозный синтез наук, к которому призывал Федоров, должен быть осуществлен в космическом масштабе и быть прежде всего преобразовательно-деятельным: в нем практика, т.е. знание, доказанное «опытами в естественном размере», всеобщей регуляцией, сам достигнутый несомненный результат труда становится высшим критерием истины. Лаборатории ученых – а исследователями делаются все – распахиваются на всю природу, весь мир, углубляются в самого человека, его «физику» и психику, в тайны смерти и зла.
Во всеобщую космическую науку о жизни, науку о человеке в том числе, входят все науки, ибо жизнь – единая целостность, в которой все взаимосвязано. Жизнь человека затухает, по меньшей мере, по двум рядам причин: внешним (стихийность среды, ее разрушительный характер, чему не может противостоять недостаточная, говоря современным научным языком, информационная емкость человеческого организма, т.е. недостаток знания и умения, который, по мысли Федорова, может быть преодолен всеобщим познанием, трудом, регуляцией природы) и внутренним (сама материальная организация человека оказывается неспособной к бесконечному самообновлению, не есть совершенно открытая система, тут необходима всеобъемлющая психофизиологическая регуляция).
До сих пор свое расширение в мире, господство над его стихийными силами человек осуществлял прежде всего за счет искусственных орудий, продолжавших его органы, одним словом, при помощи ехнических средств и машин. На этом пути достигнуты колоссальные успехи, осуществились сказочные мечтания о сапогах-скороходах, коврах-самолетах и т.д. Развивая технику, человек не покушается на собственную природу как таковую, он священно блюдет ее норму и границу, оставляя себя самого как есть, ограниченным и физически и умственно. Сила его увеличивается за счет внешних ему, его телу, его мозгу и сердцу орудий и машин. Разрыв между мощью техники и слабостью самого человека как такового все растет и потому все более ошеломляет, даже начинает ужасать (отсюда современные мифы-фобии «восстания машин», порабощения людей будущими киборгами, могучими роботами и т.д.). Нельзя отрицать значения техники, нужно только поставить ее на место. Технизация, считает Федоров, может быть только временной и боковой, а не главной ветвью развития. Нужно, чтобы человек ту же силу ума, выдумки, расчета, озарения обратил не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, их улучшение, развитие и радикальное преображение (так, скажем, чтобы человек сам мог летать, видеть далеко и глубоко и т.д.). «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы»10. Федоров часто говорит о необходимости глубокого исследования механизма питания растений, по типу которого возможны перестройки и у человека (предвосхищение идеи Вернадского об «автотрофности» человека). Человек должен так чутко войти в протекающие в природе естественные процессы, чтобы можно было по их образцу – но на более высоком, сознательном уровне – обновлять свой организм, строить для себя новые органы, иными словами – овладевать направленным естественным тканетворением. Эту способность человека в будущем создавать себе всякого рода творческие органы, которые даже будут меняться в зависимости от среды обитания, действия, наш философ-мечтатель называет полноо́рганностью.
В связи с этим вспоминается одна из центральных идей Бергсона о двух путях развития, по которым пошла жизнь: бессознательного инстинкта и интеллекта. Главное качество инстинкта «есть способность пользоваться и даже создавать орудия, принадлежащие организму» (пример трансформизма такого рода – превращение куколки в бабочку). А человек, homo faber, созидает орудия, свои искусственные органы, для манипулирования с телами мира, что ведет к развитию интеллекта, а с ним, в определенном смысле, механистического подхода к миру. «Интеллект, – подчеркивает французский философ, – характеризуется природным непониманием жизни». Инстинкт же, напротив, органичен, он изнутри, интимно чует мир. Если бы инстинкт мог озариться сознанием, то проник бы в самые недра жизни, в ее тайное тайных, ведь сам он «продолжает ту работу, посредством которой жизнь организует материю». В человеке есть неразвитые зародыши такого рода «инстинкта». Это прежде всего интуиция. Через нее можно скорее и глубже если не осознать, то смутно почувствовать саму суть вещей, суть жизни, а действует интуиция через симпатию, со-чувствие, как бы слияние с предметом, через мгновенное преодоление того раскола на субъект – объект, который развился в ходе орудийного отношения человека к миру. Недаром у Бергсона человек по-настоящему еще не соответствует определению sapiens, он только faber, что как раз указывает на его нынешнюю ограниченность. Путь интеллекта, только технического развития ведет, по мнению Бергсона, по существу к рабству у материи. Освободиться от него возможно будет только тогда, когда сознание человека сумеет «обратиться вовнутрь и разбудить те возможности интуиции, которые еще... спят». Так вот, если вернуться к идеям Федорова, то творчество самой жизни, «органический» прогресс, к которому он призывает, это и есть расширение интеллекта за счет разбуженных и развитых ресурсов интуиции, сознательное овладение тем «органосозиданием», которое доступно «творящему стану» самой природы на уровнях инстинкта. Движет такой прогресс мечта о бессмертии, которая в трудах Федорова обрела достижимые очертания: впервые в истории был предложен реалистический путь опытного познания, преобразования законов природы, всеобщего труда, – путь, ведущий к победе над смертью.
Интересно, что почти одновременно с Федоровым еще один его современник пытался обосновать будущее космическое развитие человечества. Речь идет о знаменитом драматурге А.В. Сухово́-Кобылине. Удалившись в свое родовое имение, более двадцати лет он отдал построению оригинального философского синтеза, основанного на эволюционном учении Дарвина и диалектике Гегеля. В 1899 г. в Кобылинке разразился пожар – погибла библиотека и все рукописи ее владельца. Мир так и не узнал «учения Всемира» (так называл свою философию сам автор). Случайно сохранившиеся остатки рукописей Сухово-Кобылина, а также более поздние авторские попытки восстановления текста нуждаются в тщательном исследовании. Их публикация и анализ обнаружат потерянное звено русской мысли конца прошлого века, причем той ее линии, которая относится к активно-эволюционной, космической философии.
Сейчас человечество, считал Сухов-Кобылин, находится в своей земной (теллурической) стадии развития. Ему предстоит пройти, завоевать собственным усилием еще две: солярную (солнечную), когда произойдет расселение землян в околосолнечном пространстве, и сидеральную (звездную), предполагающую проникновение в глубины космоса и их освоение. Это и будет Всемир, «всемирное человечество» – «вся тотальность миров, человечеством обитаемых во всей бесконечности Вселенной». Такое звездное будущее возможно лишь при колоссальном эволюционном прогрессе человечества, творчестве им своей собственной природы. Дальнейшее одухотворение человека связано в мечте Сухово-Кобылина, в частности, с достижением способности «летания», которое есть как бы отрицание пространства, победа над ним. Изобретение таких средств передвижения, как .велосипед, локомотив, для философа – первые шаги к этой будущей свободе и силе, «почин, зерно будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы этого теллурического мира»11. «Человека технического» сменит «человек летающий»: «высший, т.е. солярный, человек просветит свое тело до удельного веса воздуха... »для этого выработает свое тело в трубчатое тело, т.е. воздушное, более того, в эфирное, т.е. наилегчайшее тело»12. В результате преобразовательного действия, направленного на собственную природу, человек как бы сбросит свою нынешнюю тяжелую .телесную оболочку и превратится в бессмертное духовное существо. Это и есть радикальное переосмысление гегелевского «абсолютного духа», тут обернувшегося реальным человечеством в его грядущей космической судьбе. Но все развитие этого человечества идет у Сухово-Кобылина путем довольно жесткого отбора, куда попадают целые периоды истории, особенна ранней (в таком видении эволюционного процесса он опирается на дарвиновские идеи селекции и борьбы за жизнь, перенесенные им на человеческое общество). Когда философ в самое начало человека помещает только зверообразного антропофага, а в конец его, «экстрем», – лучезарную духовную личность, бессмертное звездное человечество, то все этапы, ведущие к этому блистательному финалу (человек «чувственный», «рассудочный» вытесняется «разумным»), а уж тем паче самое начало движения (дикарь), идут спокойненько на перегной.
Любая философская теория направляется в своих посылках и выводах тем или иным нравственно-ценностным импульсом. Федоров в своих футурологических построениях, в отличие от Сухово-Кобылина, всегда опирается на сверхприродные, духовные задатки человека, предвосхищая будущее их развитие с полным вытеснением всего животного, «дарового» в нем. Усматривая в первоначальном, так сказать, человеке сыновнее чувство, нравственное потрясение от осознания смерти, одаривая его сердцем, может быть, чище нашего, Федоров как бы выдвигает теоретическую философскую предпосылку его равноценности нам (как, впрочем, и всех живших на земле людей) и необходимости личного присутствия в будущем всемирном человечестве.
Подводя итоги всплеску новых философских идей, во многом стимулированных естественнонаучными открытиями середины прошлого века, отметим следующее. Идея эволюции словно открыла воздух сокровенным человеческим надеждам. Было воспринято главное: раз идет все усложняющееся преемственное развитие форм жизни, то и человек получает определенный естественный шанс для своего совершенствования. Исходя из одного, общего желания превзойти, перерасти нынешнюю противоречивую, промежуточную природу человека, проективная мысль начала работать в двух направлениях. Образовались как бы два идейных рукава. В одном из них чувствовалось сильнейшее, направляющее действие дарвиновских идей естественного отбора, борьбы за существование как двигателей прогресса (та или иная форма, часто скрытая и неосознанная, социал-дарвинизма). Даже лучшие идеи этой ориентации искривлены полем этого воздействия. Дальнейшее восхождение «гомо сапиенс» виделось на природных путях борьбы и вытеснения слабых и неприспособленных форм. Но любая самая утонченная селекционная идея, перенесенная на человека, всякого рода природно-биологические идеалы усовершенствования высших рас и экземпляров рода человеческого приводят в конце концов лишь к новому виду антропофагии. И горло одиночного антропофага первобытных времен вырастает в громаднейшую глотку, пожирающее жерло, в котором должны бесследно исчезнуть тысячи и миллионы неудачных, неполноценных и недостойных. Так, французский философ Эрнест Ренан (1823–1892), представляя блистательное эволюционное будущее, где у него и торжество науки, и бесконечно умножившийся разум человечества, познавшего все свое прошлое, тайные пружины мира и ставшего всемогущим властелином материи, договорился до проекта выделения «небольшой части аристократов ума, которые являются головой человечества и которых масса сделала бы хранилищем своего разума»13, и даже до настоящего «научного ада» как страшной карательной меры для непокорных. И конечно, наиболее яркий и крайний пример тут -идея «сверхчеловека» Ницше, столь кроваво опошлившаяся в известных попытках ее истерической реализации.
Но в разного рода разбавлениях, в значительно более гуманных вариантах логическая и душевная установка на «селекцию» прослеживается и в таких явлениях активно-эволюционного, космического синтеза, как «учение Всемира» Сухово-Кобы-лина, или в некоторых идеях Умова и Циолковского. При всем пафосе творчества, одухотворения мира и человека в их построениях временами звучат жесткие элитарные нотки: у Сухово-Кобылина в разряд уходящих в труху бытия попадают наши «зверообразные», дикие предки, «несовершенные» расы; у Умова дается внутреннее согласие на неизбежность вымирания неких людей-автоматов, не сумевших подняться на гребень эволюции; у Циолковского встречается идея «искусственного подбора», приводящего к созданию «существ без страстей, но с высоким разумом», или задача «профилактического» уничтожения несовершенных, низших форм жизни.
Другая нравственно-философская тенденция, обосновывая самодостаточное значение человеческой личности, солидарно-родственно связанную цепь поколений, была одушевлена идеалом всеобщности. Как ученый Вернадский высказывался в этом смысле однозначно: «Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей – Homo sapiens и его геологических предков Synanthropus и др. <...> Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона природы»14. Кстати, это направление активно-эволюционной мысли недаром всегда протестовало против абсолютизации в самой природе значения селекции и борьбы за существование. Реальности больше отвечает, полагал тот же Вернадский, обратный закон – «принцип солидарности», выдвинутый двумя русскими учеными независимо друг от друга: сначала зоологом Карлом Кесслером, а позже П. Кропоткиным. Наиболее радикально-дерзновенным выразителем этого направления является Федоров. Для автора «Философии общего дела» человеческая личность – высшая ценность и, следовательно, такая же ценность – ее бесконечная, преображенная жизнь, причем развитое нравственное чувство личности требует спасения буквально всех погибших, возвращения всех утраченных. Философ призывал не потерять ни единого из малых сих, чутко ценить даже слабые проявления человеческой индивидуальности, которая должна быть развита до своего совершенства у всех без изъятия всеобщим и личным творчеством и трудом. Ту же цель обо́жения человека ставили и другие религиозные мыслители: и В.С. Соловьев, и П.А. Флоренский, и С.Н. Булгаков, и Н.А. Бердяев... Одним из вариантов активно-эволюционного осмысления задач человека в мире стала теория ноосферы, суть которой под различными словесными обличьями является неотъемлемой принадлежностью круга идей русского космизма.
Впервые слово «ноосфера» прозвучало в стенах старейшего учебного заведения Франции – парижском Коллеж де Франс на лекциях 1927/28 учебного года из уст последователя Бергсона – философа и математика Эдуарда Леруа. При этом соавтором ноосферной концепции был объявлен его друг и единомышленник Тейяр де Шарден, палеонтолог и философ. Оба строят свою мысль, опираясь на понятия биосферы и живого вещества, в том духе, как они были развиты Вернадским в его знаменитых лекциях в Сорбонне в 1922–1923 гг. А Владимир Иванович в свою очередь принимает идею ноосферы и продумывает ее далее. С конца 30-х гг. в эту идею стягивается самая суть оптимистического мировоззрения русского ученого. Недаром и последней его опубликованной работой, своеобразным исповеданием веры и духовным завещанием становится небольшая статья «Несколько слов о ноосфере» (1944).
По мнению авторов ноосферной теории, появление человека в ряду восходящих жизненных форм означает, что эволюция переходит к употреблению новых средств – психического, духовного порядка. Действительно, эволюция в своем первом мыслящем существе произвела небывалое орудие своего дальнейшего развития: разум, обладающий самосознанием, возможностью глубинно познавать и преобразовывать себя и мир. Человек – кульминация спонтанной, бессознательной эволюции, но вместе с тем и некое начало, вырабатывающее в себе предпосылки для нового, разумно направленного этапа самой эволюции. С первой мысли человека о мире и себе, с первого самого малого практического изобретения, идея и проект которого стали передаваться (устно, в предании, затем письменно, в документе и книге...), совершенствоваться далее, зачался тот опоясавший ныне всю планету информационный поток сведений, знаний, концепций, теорий, который дает нам наиболее образно близкое представление о некоей новой специфической оболочке Земли (ноосфере), как бы наложенной на биосферу, но не слитой с ней и оказывающей на последнюю все большее преображающее воздействие. Она потому и называется сферой разума, что ведущую роль в ней играют разумные, идеальные реальности: творческие открытия, духовные, художественные, научные идеи, которые материально осуществляются в преобразованной природе, искусственных постройках, орудиях и машинах, научных комплексах, произведениях искусства и т.д.
Почти идентичное ноосфере понятие предлагал и П.А. Флоренский в письме к Вернадскому от 21 сентября 1929 г.: «Со своей стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или, может быть, на биосфере, того, что можно было бы назвать пневматосферой, то есть о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа»15. И терминологически оба понятия достаточно близки друг другу: оба первых корня – греческого происхождения, «ноос» означает ум, разум, а «пневма» – дух, духовное начало.
Но уже трактовка Федоровым регуляции как «правящего разума природы», как «внесения в природу воли и разума» содержит в себе ядро ноосферной теории. (Кстати, среди основных значений слова «ноос» мы находим кроме разума еще и волю.) Регуляция природы определяет себя как принципиально новая ступень эволюции, как сознательно-волевое преобразовательное действие, выполняемое «существами разумными и нравственными, трудящимися в совокупности для общего дела». В традиции христианского космизма аналогом идеи ноосферы и ноогенеза (становления ноосферы) стала концепция Богочеловечества, богочеловеческого процесса обо́жения, преобразования мира.
С.Н. Булгаков в книге «Философия хозяйства» (1912), где ощущается подспудное влияние федоровских идей трудового преображения мира, утверждает следующее: «Природа, достигнув в человеке самосознания и способности труда над собой, вступает в новую эпоху своего существования. Хозяйственный труд есть уже как бы новая сила природы, новый мирообразующий, космогонический фактор, принципиально отличный притом от всех остальных сил природы. Эпоха хозяйства есть столь же характерная и определенная эпоха в истории Земли, а через нее и в истории космоса, что можно с этой точки зрения всю космогонию поделить на два периода: инстинктивный, до-сознательный или до-хозяйственный – до появления человека и сознательный, хозяйственный – после его появления»16. В своей высшей задаче хозяйственная деятельность понимается Булгаковым как осуществление Божьего завета о «владении землей», о новом обретении «прав на природу, им (человеком. – С. С.) некогда утерянных», о покорении смертоносных стихий, очеловечивании природы и обо́жении себя. Этот процесс медленен и труден. Осуществление поистине «эдемского» хозяйствования, «новой космической эры» еще далеко впереди, нынешняя же хозяйственная деятельность отмечена всеми проклятиями падшего состояния мира: рабством у материи, у вещей, отчуждением, взаимной борьбой и притеснением.
Этот же разрыв идеала ноосферы и его реальности мы встречаем и у авторов ноосферной теории. В их рассуждениях присутствуют два на первый взгляд несводимых подхода. С одной стороны, ноосфера возникает с самого появления человека как процесс сугубо объективный, стихийный, с другой – только сейчас, в наше время, биосфера начинает переходить в ноосферу; собственно ноосфера где-то еще впереди, на совсем другом, далеко не достигнутом уровне планетарного сознания и действия человечества. Такое же двойственное определение ноосферы встречается у Вернадского. Настойчиво напрашивается простейший выход из противоречия: разделить создание ноосферы на два периода. Так, современные авторы различают предноосферу и будущую собственно ноосферу, некоторые из них эту предноосферу дробят на более мелкие части: антропосферу, социосферу, выделяют техносферу, а собственно ноосферу опять же отсылают в прекрасное далеко.
Тем не менее (никуда не денешься!) на Земле создана новая искусственная оболочка – биосфера, радикально преобразованная трудом и творчеством человека. Но, как всем нам хорошо известно, это преобразование далеко не всегда было по-настоящему разумным, зачастую носило хищнический, неукротимо и жадно потребляющий природу, ее ресурсы характер. Еще Федоров предсказал нынешнее опасное направление во взаимоотношениях человека и природы, называл его утилизацией и истощением последней, утверждая при этом, что цивилизация лишь «эксплуатирующая, но не восстановляющая не может иметь иного результата, кроме ускорения конца»17. Да и ноосферный информационный поток содержит в себе идеологии и концепции антигуманные и ложные, осуществление которых или уже приносило колоссальные бедствия Земле, или грозит еще большими, вплоть до гибели самого человечества и биосферы.
Человек в своих антропологических, социальных, исторических гранях – существо еще далеко не совершенное, в определенном смысле «кризисное». Вместе с тем существует идеал и цель высшего, духовного Человека, тот идеал, который и движет им в стремлении превозмочь собственную природу. Так и создание человека – ноосфера есть и еще достаточно дисгармоничная, находящаяся в состоянии становления реальность, и вместе с тем высший идеал такого становления. И отношения между этой реальностью и этим идеалом весьма сложны. Породив разум как орудие своего дальнейшего развития, но орудие, наделенное свободой (к тому же вложенной в противоречивое, смертное творение), эволюция словно пошла на риск. Свобода – это ведь и свобода говорить не только «да» сознательному преобразованию мира (а к какому великолепно-триумфальному «да» призывают нас все активно-эволюционные мыслители!), но и «нет», вплоть до решительного и окончательного «нет» самой эволюции. С появлением человека эволюция как бы получает возможность встать в позу Гамлета и задать себе вопрос «быть или не быть?». В наше время этот момент балансирования особенно остер. Возникла реальная опасность родового самоубийства человечества, а с ним и жизни вообще. Вот она, по выражению Тейяра де Шардена, «угроза забастовки в ноосфере»! Ответственность разумных существ колоссальнее, чем они могут это представить: в своем «падении» мы увлечем за собой и всю космическую эволюцию, магистраль которой проходит через жизнь и сознание; своим малодушным, «демоническим» выбором можем обречь на неудачу весь космогенез. Универсум без нашего совокупного созидательного усилия в деле его творческого одухотворения обернется абсурдом. Но именно в силу столь решающего эволюционного значения человека мыслители-космисты считают невероятным такой глобально плачевный исход.
Вернадский как ученый-натуралист больше других сделал для объективного изучения складывающейся в геологическом и историческом времени реальности ноосферы; выдающийся мыслитель, он провидел сущность «ноосферы как цели», как идеала, а также ее задачи и движущие силы.
В XX в., по чувству и мысли ученого, возникли значительные материальные факторы перехода к ноосфере, к осуществлению идеала сознательно-активной эволюции. Первый из этих факторов – вселенскость Человечества, т.е. «полный захват человеком биосферы для жизни». Вся Земля не просто преобразована и заселена до самых труднодоступных и неблагоприятных мест, но человек проник во все стихии: землю, воду, воздух, а сейчас, как мы знаем, способен жить и в околоземном, космическом пространстве. Второй, может быть, решающий для создания ноосферы – единство человечества. Многие привыкли относиться к идее единства, равноправия и братства всех людей как к благородной нравственной идее, начавшей пробиваться в относительно недавней истории с мировых религий, великих философских систем, литературных произведений и утопических построений. Вернадский укореняет ее значительно глубже, представляет как природный факт. «Биологически это выражается в выявлении в геологическом процессе всех людей как единого целого по отношению к остальному живому населению планеты». Взгляд на историю ученого-натуралиста поражает уважением уже к самым далеким нашим предкам, теряющимся в глубине веков, вплоть до других ветвей вида homo. Единство человечества, считает Вернадский, в наше время во многом стало «двигателем жизни и быта народных масс и задачей государственных образований». Будучи еще весьма «далеким от своего осуществления», это единство как стихийное, природное явление пробивает себе путь, несмотря на все объективные социальные и межнациональные противоречия и конфликты. Созидается общечеловеческая культура, сходные формы научной, технической, бытовой цивилизации; самые отдаленные уголки Земли объединяются быстрейшими средствами передвижения, эффективными линиями связи и обмена информацией. Третий фактор – омассовление общественной, исторической жизни, когда «народные массы получают все растущую возможность сознательного влияния на ход государственных и общественных дел». И наконец, то, что было в центре раздумий и надежд ученого-мыслителя: рост науки, выход ее в мощную «геологическую силу», главную силу создания ноосферы.
Научная мысль – такое же закономерно неизбежное, естественное явление, возникшее в ходе эволюции живого вещества, как и человеческий разум, и она не может, по глубочайшему убеждению Вернадского, ни повернуть вспять, ни остановиться, ибо таит в себе потенцию развития фактически безграничного. Вера в науку у Владимира Ивановича также по существу безгранична. Он убеждает нас, что «научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому процессу, созданием которого она является»18.
Это было написано непосредственно перед второй мировой войной, а ее опыт, как известно, сокрушительно показал, что наука может прекрасно служить и темным, антиноосферным силам. Впрочем, Вернадский был свидетелем, как уже первая мировая война явила «невиданное ранее применение научных знаний» в целях «военного разрушения». Он предвидел, что найденные и использованные наукой и техникой к этому времени смертоубийственные средства «едва начинают проявляться в этой войне и сулят в будущем еще большие бедствия, если не будут ограничены силами человеческого духа и более совершенной общественной организацией»19. Последние десятилетия развития науки целиком оправдывают это предсказание. В устрашающей тени рукотворных, светлых научных чудес сейчас, как никогда, множатся и изощряются столь же фантастические средства убийства и уничтожения. Образец «научно построенного человечества» начинает не столько притягивать, сколько вызывать опасение и даже отталкивать, ведь на счету главной его силы – уже и атомные, и нейтронные бомбы, и реальные угрозы корыстных генетических манипуляций. Почему же получается, что успехи ноосферы, рост созидательных достижений не могут не идти с одновременным накоплением такого же, если не большего, количества разрушительных возможностей, которые грозят вообще взорвать всю антиэнтропийную зону жизни?
Вернадский считал необходимым создать «интернационал ученых», который культивировал бы «сознание нравственной ответственности ученых за использование научных открытий и научной работы для разрушительной, противоречащей идее ноосферы, цели»20. А в уже процитированной только что статье 1915 г. «Война и прогресс науки» он выдвинул весьма оригинальную идею: обезвредить, так сказать, «негативную науку, все ее кошмарные плоды, наукой же, но защитительного и охранительного свойства. Но достаточно ли этого и не глубже ли здесь противоречие? Ведь и науку, и ноосферу в конечном счете строит человек.
Кризис веры в человека, кризис гуманизма, остро обнаружившийся в нашем веке после тех страшных злодейств невиданного исторического масштаба, на которые оказался способен человек, по-новому остро поставил вопрос о его природе, о правомерности «обожествления» природной данности человека, ее естественных границ. Можно ли в человеке (в его нынешней противоречивой, несовершенной, подвластной губительным импульсам природе), которого заносит в самый кромешный ад вопреки самым благим намерениям, найти абсолют? Мыслители-космисты отвечают: нет! И особенно решительно это «нет» звучит у Федорова и других философов религиозной ориентации – В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева. За абсолют может быть принят только идеал, стоящий выше человека. Это – Бог или высший преображенный человек в составе богочеловеческого единства.
Путь к такому высшему человеку должен идти через обретение им все более высокого онтологического статуса (в христианской мысли, напомним, этот процесс называется обо́жением). Корни же той православной антропологии, которая делала акцент на активности самого человека (а именно такая антропология развивалась религиозными космистами), лежат в традиции исихазма (священнобезмолвия), возникшего в аскетической практике еще в IV–VII вв., но теоретически развитого св. Григорием Паламой. И что особенно ценно – здесь мы сталкиваемся не с теорией, а со своеобразной практикой так называемого «умного делания». На фоне всегда очень сильного в христианстве спиритуального уклона (тело – лишь темница души), уклона по существу платонически-языческого, чуждого самому духу Христова обетования, – в исихазме речь шла о задаче включить и тело, а не только душу или ум в круг преобразования и освещения для будущего обо́жения. Исихасты (в России это были известный подвижник XV в. Нил Сорский и его последователи) разрабатывали особые психофизиологические приемы управления своим телом во время иисусовой молитвы, многократного сосредоточенного повторения одной и той же молитвенной формулы. В исихазме несомненен порыв от отвлеченно-умозрительных построений («умного созерцания», «бесплодных слов», как выражался св. Григорий Палама) к каким-то формам опытного преобразования естества. Правда, этот опыт еще ограничен, так сказать, узкими лабораторно-монашескими пределами, в нем, кстати, чувствуется некоторое внешнее сходство с индийской йогой (и в позе, и в приемах ритмизации, «сдерживания» дыхания, регулирования кровообращения, особой концентрации внимания и т.д.). В опыте «помещения ума в сердце», «духовного трезвения», «умной молитвы» главное – не отрывать сознание от тела в великолепно-державное бытие чистого духа, как это происходит в различных формах спиритуализма, а соделать его одухотворяющим регулятором всех телесных органов и сил человека.
В русском космизме, начиная с Федорова, прочно утверждается убеждение: человечество, самодовольно погрязшее в низшей свободе, свободе метаться во все стороны, изведывать все искусы, все возможности своего природного круга существования, никогда не сможет обрести высшей свободы благого избрания идеала ноосферы (или Царствия Небесного), если оно не начнет направленно преобразовывать саму свою теперешнюю физическую природу, так чтобы она постепенно становилась способной осуществлять этот высший идеал, ноосферный (или активно-христианский). Прочное нравственное совершенствование человека возможно только вслед и вместе с физическим его преображением, освобождением от тех природных качеств, которые заставляют его пожирать, вытеснять, убивать и самому умирать. Одним словом, утверждают космисты, необходима реальная, активная работа над преодолением своей нынешней «промежуточности» и несовершенства. И многие из них продумывают конкретные направления такой работы. К идеям внутренне-биологического, «органического» прогресса принадлежит, в частности, замечательная мысль Вернадского о будущем автотрофном человечестве.
Гердер называл человека «наивеличайшим убийцей на земле», имея в виду тот объективный факт, что он является плотоядным увенчанием целой пищевой пирамиды. Человек сейчас-животное гетеротрофное, т.е. прямо зависящее в своем питании и, следовательно, существовании от других живых существ или продуктов жизнедеятельности. Только растения, не считая некоторых почвенных бактерий, – существа автотрофные (самопитающиеся), которые строят свой организм, не пожирая других живых существ, на основе мертвого, косного вещества окружающей среды (газы, соли, водные растворы) при помощи солнечного света, рассеянной лучистой энергии космоса. Дальнейшее развитие человечества, по Вернадскому, будет состоять «в изменении форм питания и источников энергии, доступных человеку». Ученый имеет в виду овладение энергией Солнца, а также «непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ», умение поддерживать свой организм, как растения – из самых элементарных природных неорганических веществ. Речь пока идет о промышленном синтезе пищи, первые опыты которого проводил французский химик Марселен Вертело еще при жизни Федорова. Но идея автотрофности простирается в своем дерзании значительно дальше, предполагая творчески-трудовое обретение такого принципиально нового способа обмена веществ с окружающей средой, который в пределе не будет иметь конца. Уже в растении солнечная энергия «перешла в такую форму, которая создает организм, обладающий потенциальным бессмертием, не уменьшающим, а увеличивающим действенную энергию исходного солнечного луча»21. В автотрофном человеке, сознательно и активно осуществляющем свое творческое самосозидание, эта потенциальная возможность должна перейти в действительную. Сам Вернадский прямо об этом не писал. Но уже у Федорова задача превратить питание в «сознательно-творческий процесс – обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани»22 не только была поставлена, но и осмыслена как одно из направлений в деле реального овладения человеком бессмертной природой, как одно из условий обретения им «причины самого себя». Циолковский также писал о будущем человеке, «животном космоса», прямо ассимилирующем в своем питании солнечные лучи и элементарные вещества среды и могущем быть бессмертным.
Вернадский высочайшим образом оценивал возможную реализацию идеала автотрофности для всего человечества: «Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Это означало бы, что единое целое – жизнь – вновь разделилось бы, появилось бы третье, независимое ответвление... Человеческий разум этим путем не только создал бы новое большое социальное достижение, но ввел бы в механизм биосферы новое большое геологическое достижение...»23.
Когда Вернадский в основной своей философской работе «Научная мысль как планетное явление» размышляет о принципиально новых «общечеловеческих действиях и идеях», которые возникли в XX в. как одна из предпосылок перехода от биосферы к ноосфере, он называет прежде всего проблему «продления жизни, ослабления болезней для всего человечества», считая при этом, что тут только начало и «остановлено это движение быть не может». Ряд мыслителей-космистов уже прямо глядели в предел «этого движения», ставя высшей целью активной эволюции достижение индивидуального бессмертия. В эволюционные перспективы ноосферы включаются не только все большее планетарное единство и умножение коллективной творческой мощи человечества, но и самые интимные, глубинные запросы каждой личности. Принцип родового триумфа в ущерб отдельной особи, торжествовавший в животной эволюции, на стадии человека уже анахронизм, и анахронизм трагический, требующий своей отмены.
На этом стоит не один Федоров. Вспомним известного ученого-биолога, долгие годы президента Белорусской академии наук В.Ф. Купревича, представления которого о жизни и смерти (а с ними он в 60-х гг. выступил в популярной печати), безусловно, принадлежат к активно-эволюционной ноосферной отечественной мысли. Он начал с того, что усомнился в неизбежности явления смерти для живого, в фатальной принадлежности ее жизни вообще. И к этому выводу его привело как раз профессионально глубокое знание мира животных и растительных форм. «В самом деле, в основе жизненных форм лежит протопласт – комочек вещества сложного, постоянно обновляющегося, способного к неограниченным изменениям своих свойств в процессе обмена материей и энергией с внешней средой. Способность протопласта к построению живого вещества определенного типа или вида безгранична»24. И сейчас в природе существуют практически бессмертные существа: многие одноклеточные, например инфузории. Известно, что микроорганизмы, пролежавшие в солевых отложениях сотни миллионов лет, оживают, попав в благоприятные условия. У секвойи, живущей тысячи лет, смерть наступает не от старости (клетки ее остаются молодыми), а от внешних причин.
Живой организм принципиально отличается от неживого своей способностью к самообновлению. «Человек прочнее скалы, я бы сравнил его с рекой, – писал Купревич, – воды в ней меняются, а река остается все та же. Спрашивается: почему же этот вечнотекущий процесс жизни должен иметь конец?»25. Почему на каком-то этапе самообновление организма начинает давать перебои, он стареет и умирает?
Купревич высказывался в том смысле, что смерть возникла в природе эволюционно как особое средство для более быстрого совершенствования рода, целого под действием естественного отбора. Как будто природа в процессе своей эволюции стремилась к созданию какого-то высшего существа и не жалела для этого мириады индивидуальных животных жизней, целые роды и семейства. Таким существом стал человек, в нем впервые оформилось то, что мы называем личностью – неподменимое и неразложимое телесно-духовное единство, уникальное самосознание, включающее чувство, что возможности развития этой личности безграничны, если бы не роковые материально-природные границы существования. Создается впечатление, что с появлением человека, сознательного творца по своей природе, механизм родового совершенствования через смену поколений работает уже вхолостую, по инерции. Природа, раз включив его, уже как бы не может остановиться. Вместе с тем, именно породив сознание, она создает предпосылки сознательной остановки этого механизма – уже творчеством и трудом самого носителя сознания. «Смерть противна самой природе человека, – подводит итог ученый, – вероятно, человек интуитивно понимал, что века, на протяжении которых шла эволюция, потрачены зря, если жить ему всего 50- 70 лет»26. Эта видовая граница – средний срок жизни человека – возникла в результате длительной эволюции физической природы предков современного человека. Она вовсе не абсолютна, не незыблема, как полагают многие, а может быть, считает ученый, «отодвинута в принципе на любое число лет».
У человека высокодифференцированные нервные клетки, в отличие от прочих клеток его организма, не меняются от рождения до смерти. Купревич уверен, что появятся новые психотерапевтические методы, способные предохранить нервную систему от износа и регенерировать ее. Если есть запрограмированный «вирус смерти», как считают некоторые ученые, то он может быть заменен «вирусом бессмертия», который проникнет в каждую клетку организма, омолаживая ее или делая бессмертной. Теорий и подходов немало, ясно одно: для победы над смертью необходимо обнаружить «первопричину смерти», понять основные механизмы жизни, которые можно будет регулировать в нужном направлении.
Купревич твердо верит, что наступит эра долгожителей, а затем и практически бессмертных людей. Пока трудно вообразить, какие блага принесет человечеству победа над старостью и смертью. С развитием общества, расширением человечества в пространстве, развитием его мощи человеку будет все теснее в рамках его видового жизненного предела. К тому же пока человек смертен, сохраняется самый глубокий исток зла и страдания, приводящий к вражде, разделению, соперничеству, вытеснению на всех уровнях. Даже постепенное увеличение видовой продолжительности жизни должно вести к нравственному подъему человечества. Если прогресс научный, технический идет неуклонно, то в нравственной области, как известно, нет такого последовательного возрастания. Одна из глубоких причин этого – частая смена поколений, причем каждое поколение и каждый человек в нем начинают буквально с «нуля» и только в длительном процессе воспитания и образования они должны «по идее» овладеть духовной и нравственной культурой, достигнутой человечеством к их рождению, не говоря уже о том, чтобы продвинуть ее дальше. Но овладевает ли всем опытом человечества каждый человек? И не избирает ли он нередко в оставленном наследии несовершенные, ложные, вредные части? Исправлять горькие плоды неверной духовно-нравственной ориентации уже часто попросту не остается времени жизни. И умудренный опытом, знанием, просветленный осознанными заблуждениями человек уже уступает место детям, которые начинают повторять или даже усугублять старые ошибки. Так что продление жизни – это не только важное для общества продление наиболее активного, деятельного, богатого опытом и умением возраста человека, но и предоставление ему большой возможности обозреть исторический, культурный опыт человечества, испробовать различные установки отношения к людям и жизни, найти наиболее гуманные и эффективные, выпестовать и развить свою уникальную личность, для которой тем более станет неприемлемым уничтожение, наконец, возможно, и приступить, как призывал Федоров, к изучению прошлого, наших предков, подготовке возможностей их воскрешения и преображения.
Эта федоровская идея – вершина дерзаний русского космизма. Участие человека в богочеловеческом процессе спасения распространяется здесь на то, что в ортодоксальном сознании является исключительной привилегией Творца. Сам Федоров понимал свое учение как завершение христианской Благой вести: он раскрыл Новый Завет, «логос» христианства, как программу Дела по преображению природного смертного мира в воскрешенный и бессмертный порядок бытия. Основное убеждение мыслителя в том, что божественная воля действует через человека как разумно-свободное существо, через единую соСюрную совокупность человечества, и главная задача человека при этом – соделаться активным орудием воли «Бога отцов не мертвых, а живых». Общий труд по овладению стихийными, разрушительными силами, восстановление уничтоженного природой «в период ее слепоты», самосозидание и творческое преображение мироздания – это, убеждает Федоров, высший эволюционный, нравственный долг всех: и верующих, и неверующих. Поэтому Федорову свойственно одновременное изложение одной и той же идеи и в системе естественнонаучной аргументации, обращенной к неверующим, и тут же на языке и в образах, внятных религиозному сознанию.
В выдвижении русским мыслителем идеи воскрешения, а не просто личного бессмертия – глубоко нравственный поворот его учения, утверждающего наш долг перед прошедшими поколениями, нашими отцами и матерями, которых мы вольно или невольно вытесняем с жизненной сцены. Недаром Н.А. Бердяев в своей «Русской идее» признал нравственное сознание Федорова «самым высоким в истории христианства». Интересно, что прогностическая мысль Федорова ищет и конкретные пути воскрешения. Первый из них связан с необходимостью гигантской работы человечества по собиранию рассеянных частиц праха умерших и сложению их в тела. Такой путь восходит к философским интуициям некоторых христианских эсхатологов, которые, следуя Аристотелю, высказывали предположение, что душа, т.е. некий формообра-зующий принцип человека, как бы отмечает каждую вещественную частичку его тела, так что и в посмертном рассеянии они сохраняют индивидуальную печать (в наше время на этом основана научная идея и начавшаяся практика клонирования, создания целого организма по одной клетке, как известно, несущей в себе всю генетическую информацию о нем). Вместе с тем у Федорова воскрешение мыслится в родственно связанном ряду, т.е. буквально сын воскрешает отца как бы «из себя», отец – своего отца и т.д., вплоть до первоотца и первочеловека. Подразумевается возможность восстановления предка по той наследственной информации, которую он передал потомкам. Мыслитель упорно настаивает на необходимости тщательного изучения прежде живших людей, восстановления их образов, пусть сначала лишь мысленных, причем в последовательности поколений, народов, групп, семей. Можно условно говорить о том, что Федоров ставит задачу выявления наследственного, генетического кода всего человечества в качестве предварительного условия восстановления прошедших поколений. Но конечно, главная задача – вернуть восстановленному человеку его уникальное самосознание, без этого мы получим лишь его физическую копию, нечто вроде «однояйцевого» близнеца.
Современный нам белорусский ученый А.К. Манеев, занимающийся философскими проблемами физики и биологии, полагает: то, что с древности назвали душой, носитель индивидуального самосознания, обладает особой биополевой неэнтропийной природой, сохраняющейся и после смерти человека. «И если излученные поля (например, радиоволны) ведут уже независимое от их источника существование, что, однако, не мешает им нести в себе соответствующую информацию, то столь же возможно существование и биополя, «излученного» пря гибели организма, но все же сохраняющего всю информацию о нем. На базе последней и мыслится воссоздание биосистемы, подобно тому как последняя формируется в онтогенезе на основе предшествующей ей генетической информации»27. Манеев выражает уверенность «во всесилии знания, побеждающего смерть и могущего на базе информационных программ биополевых систем возвратить к жизни всех, как говорится, ушедших в небытие, но в новой, более совершенной форме, на небелковой основе»28. Что остается от человека после смерти, действительно ли его покидает некая бессмертная сущность, душа, «оптический образ» (Федоров) или некое «биопсиполе» (Манеев), где эта сущность сохраняется, в каком виде – вот один из тех бесчисленных вопросов, которые предстоит разрешить точному знанию, любовному чувству сынов человеческих. Ибо для провозвестника «общего дела» безусловно одно: сама смерть, ее причины, изменения, происходящие с человеческим организмом в процессе умирания, и особенно посмертное состояние должны войти в круг изучения и эксперимента.
Так выясняются некоторые возможные пути, ведущие к постепенному преображению природы человека: это и создание долгоживущего поколения, и обретение автотрофности, постепенного самосозидания, и регуляция природных, космических сил и стихий, и всеобщее исследование, гигантский опыт, направленный на достижение бессмертия.
Однако в деле преображения природы мира и человека, может быть, самым трудным станет отнятие у природы ее главного оружия, ее высшего оправдания, того механизма, каким она обеспечивает свой прогресс и который в силу этого окружила наибольшей привлекательностью: половой раскол, воспроизведение человеческих особей путем полового рождения. Тут и самая сласть для природного существа, и корень его неизбежной погибели для очистки места плоду этой страсти. Как писал В.С. Соловьев в статье «Смысл любви»: «Само собой ясно, что, пока человек размножается как животное, он и умирает как животное». И еще: «Пребывать в половой раздельности значит пребывать на пути смерти»29. В этой своей работе Соловьев вслед за Федоровым ставит задачу творческой метаморфозы половой любви, задачу, может быть, наиболее диковинную, но и существенную в дальних горизонтах активно-эволюционного, ноосферного идеала.
Но сначала несколько слов о связи этих двух мыслителей-космистов. В.С. Соловьев, патриарх плеяды мыслителей русского религиозного ренессанса, знакомится с учением Федорова в сжатом виде в 1878 г., а в более развернутом – в самом начале 80-х гг. и в первом порыве от открывшейся ему пророческой дали, к которой наконец были указаны реальные пути, пишет Федорову в письме от 12 января 1882 г.: «Со времени появления христианства Ваш «проект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову» – и здесь же признает для себя его автора «дорогим учителем и утешителем», «отцом духовным». Начиная с этого времени внимательный и понимающий взгляд явственно ощутит в мысли Соловьева направляющее ее «федоровское» течение, прямо выходящее на поверхность в таких известных его философских и эстетических работах, как «Духовные основы жизни», «Красота в природе», «Общий смысл искусства», «Смысл любви». Проблемы выставлены у Соловьева, возможно, чувственно богаче, «художественнее», чем у Федорова, но сама укутанность их в образ, особенно в последних, решающих выводах, скрывает сами эти выводы, размазывает их в метафорическое «как бы», в мистические порывы. Так их и поняли в своем большинстве даже самые заинтересованные читатели – поколение русских символистов. Фактически Соловьев говорит то же, что Федоров, но, не зная последнего, понять первого в его истине, т.е. в том, что он сам хотел сказать, трудно. На точном федоровском фоне, на его экране проецируясь, стилистически эффектные перистые облака фраз и периодов Соловьева наливаются жизнью, тяжелеют верным значением. Это прекрасно почувствовал и выразил такой тонкий аналитик, как С.Н. Булгаков, в своей статье «Загадочный мыслитель» (1906).
Соловьев развивал идеи христианского активизма, богочеловечества, тесного объединения божественной и человеческой энергий в «теургическом делании», в деле избавления мира от законов «падшего» материального естества и ввода его в эволюционно высший, нетленный, соборно-любовный тип бытия, Царствие Божие. Развивал эти идеи во многом параллельно Федорову, но значительно более отвлеченно-метафизически, без конкретной проектики последнего. То же касается и статьи «Смысл любви» (1892–1894), которую нам предстоит рассмотреть. Но сначала несколько общих замечаний.
Человек располагает специфической энергией огромной мощи, которая в настоящее время расходуется прежде всего на воспроизведение его как природного существа. Стремление одухотворить, использовать для созидательных целей эротическую энергию, силу любви не раз возникало в мечте и мысли людей. Вспомним хотя бы «серии по страсти», на которых основывается природосообразный общественный строй у Шарля Фурье. А Тейяр де Шарден любви как «наиболее универсальной, наиболее могущественной и наиболее таинственной из всех космических энергий» придавал важнейшее значение для осуществления высшего единства мира. «Любовь, так же как и мысль, – писал он в статье «Строить Землю», – в ноосфере будет пребывать в состоянии неизменного роста. Избыток увеличивающихся энергий любви перед все уменьшающимися потребностями размножения людей будет каждый день становиться все очевиднее. Это означает, что эта любовь, в своей до конца очеловеченной форме, имеет своей целью выполнять функцию гораздо более широкую, чем простой призыв к размножению». Об этой «гораздо более широкой функции» размышляли философы, начиная с Платона, ее пытался поставить на научную основу своей теорией сублимации Зигмунд Фрейд, но особо радикальный поворот раскрытие «смысла любви» получило в русском космизме. Точнее, в мысли Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева и их ученика А.К. Горского.
Рождение, половой раскол, эрос, смерть сцеплены нераздельно, и претензия на бессмертную жизнь требует своей последовательной логики. Задачу преодоления слепого полового рождения, трансформации эротической энергии Федоров ввел в план преобразовательно-космической практики, план построения преображенного порядка бытия. Разрешение подобной задачи – наиболее неясный и конкретно трудно пред-ставимый участок возможной будущей работы над обретением творческого самосозидания человека. Мыслитель и ставил ее лишь в самой общей форме. Воскрешение – фундаментальный «антиприродный» акт, обратный рождению. Темная, бессознательная род створная энергия должна быть претворена, сублимирована в светлую, сознательную творческую энергию, направленную на познание мира, его регуляцию, воссоздание утраченной жизни. Федоров неоднократно подчеркивал, что он не просто отрицает плотскую любовь, что привело бы к аннигиляции силы эротической энергии. Скрыто полемизируя с Толстым, он различает отрицательное и положительное целомудрие. Отрицательное целомудрие, сохранение аскетической девственности, внутренне противоречиво; оно далеко не достаточно, это лишь «борьба оборонительная», которая не дает настоящих положительных результатов, а при своей абсолютизации приведет лишь к самоубийству человеческого рода. Посту – отрицательному аскетизму – Федоров противопоставляет «творческий процесс, воссоздание своего организма, заменяющее питание» (у Вернадского это автотрофность), отрицательному целомудрию – положительное, которое требует действительно полной мудрости, в смысле полного обладания своими силами и энергиями мира, идущими на воссоздание умерших, преображение и их, и себя.
Но обратимся к ходу размышления в соловьевском «Смысле любви». Только половая любовь, по глубине захвата всего существа человека равная эгоизму, в какой-то мере уже есть, а должна стать в полной мере, силой преодоления последнего. В любви, подчеркивает Соловьев, происходит действительное перенесение «центра личной жизни» в другого, оба любящих восполняют друг друга своими качествами, создавая вместе более богатое единство; истинная любовь предполагает обязательное равенство любящих; наконец, всем в любви известна идеализация предмета любви – живое и конкретное прозревание абсолютного содержания его личности и ее утверждение. Эти качества любви вовсе не нужны для простого размножения, увековечения чреды все таких же природно ограниченных, более-менее улучшенных или ухудшенных существ. Служа продолжению рода, половая любовь «оказывается пустоцветом». «Если смотреть... на фактический исход любви, то должно признать ее за мечту, временно овладевающую нашим существом и исчезающую, не перейдя ни в какое дело (так как деторождение не есть собственное дело любви)» (с. 512). Любовь как прообраз какого-то нового типа связи существ этого мира существует в человечестве зачаточно, как в мире животных разумное начало. Существующие качества любви предстают как некие задатки для восстановления в человеке идеального образа Божия, созидания из двух существ какого-то высшего единства. Осуществление смысла любви должно быть поставлено как сознательная задача человечеству, как его Дело: реально, а не только во временном и исчезающем чувстве придать абсолютное значение другому человеку, «соединиться с ним в действительном создании абсолютной индивидуальности». «Осуществить это единство или создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начал, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение, это и есть собственная ближайшая задача любви» (с. 513).
Высшую задачу любви Соловьев, как и Федоров, выводит к «общему делу» борьбы со смертью, увековечивания и преображения высшей ценности – личности, наконец, к Делу возвращения всех сознательных и чувствующих жертв природного порядка за все время его господства, т.е. воскрешение всех умерших. В своей аргументации Соловьев буквально следует за Федоровым, шаг в шаг. Забыть отцов, свой долг перед ними, предаться наслаждению бессмертием на костях и прахе поколений, подготовивших тяжким трудом и страданием это счастье, будет значить нравственное одичание предполагаемых грядущих «олимпийцев». «Человек, достигший высшего совершенства, не может принять такого недостойного дара; если он не в состоянии вырвать у смерти всю ее добычу, он лучше откажется от бессмертия» (с. 539). Соловьев развивает одну из важнейших идей автора «Философии общего дела» о том, что борьба со смертью есть часть общего дела преобразования того извращенного (по терминологии Федорова, «неродственного») статуса материального мира, в котором царит зло отдельности, непроницаемости, вытеснения и противоборства. Сама натуральная основа бытия, стоящего на двойной непроницаемости: во времени (вытеснение последующим предыдущего) и в пространстве (две части вещества вытесняют друг друга с одной точки пространства), сам этот онтологический порядок неизбежно порождает рознь. «Последнее слово, – горько констатирует Соловьев, – остается не за нравственным подвигом, а за беспощадным законом... и люди, до конца отстаивавшие вечный идеал, умирают с человеческим достоинством, но с животным бессилием» (с. 537-538). У Федорова задача выправления извращенного порядка природы в неприродный, бессмертный тип бытия ставится как конкретное дело: победа над временем, осуществление принципа сосуществования вместо последовательности, обретается в воскрешении; победа над пространством-путем достижения «полноорганно-сти», способности безграничного перемещения в пространстве, «последовательного вездесущия». Соловьев выражается намного более туманно: «Победить эту двойную непроницаемость тел и явлений, сделать внешнюю реальную среду сообразною внутреннему всеединству идеи – вот задача мирового процесса» (с. 541). Только потому, что Соловьев в проектах «регуляции природы» и «имманентного воскрешения» своего «дорогого учителя и утешителя» увидел реальную возможность одухотворения материи, он сумел так решительно ее утверждать в общей философской форме, которая, к сожалению, для других, не имевших такой удостоверяющей ее реальность расшифровки, повисала прекраснодушным и почти мистическим утверждением. А между тем впечатление чего-то мистического возникает только из опущения промежуточных проективно-деловых звеньев.
Завершительным аккордом соловьевских рассуждений о «смысле любви» звучит центральная для Федорова идея общего дела в значении дела буквально всех и для всех. «Действительно спастись, то есть возродить и увековечить свою индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только сообща или вместе со всеми» (с. 538), стремясь к идеалу совершенного всеединства, где торжествует та нераздельность всех и их личностная неслиянность, та равноценность частей и целого, общего и единичного, которая составляет, по Федорову, проективный для человеческого общества идеал Троичного божественного бытия. Соловьев целиком его прием-лет, придумывая для него свои названия – сизигия, сизигическое отношение (от греческого слова, обозначающего «сочетание», «связь»). Сизигия (любовное взаимодействие) должна обнять отношение индивидуального человека к большему, чем он сам, целому: к народу, обществу, человечеству и, наконец, ко всей Вселенной. Без знания конкретных федоровских проектов включения космической среды в любовно-преобразовательную деятельность человечества (расселение человечества в космосе, регуляция космических явлений и т.д.) следующее заявление (Соловьева также оборачивается довольно туманной фразой: «Но для полного их (различных форм разделения людей. – С. С.) упразднения и для окончательного увековечивания всех индивидуальностей, не только настоящих, но и прошедших, нужно, чтобы процесс интеграции перешел за пределы жизни социальной, или собственно человеческой, и включил в себя сферу космическую, из которой он вышел» (с. 546). Автор «Смысла любви» отказывается вдаваться в «преждевременные, а потому сомнительные и неудобные подробности, т.е. конкретно просветить смысл нового, братского отношения к космосу, те возможные пути к его установлению, которые начал разрабатывать в своих космических проектах Федоров. Соловьев не понял или не принял огромной теоретической ценности реалистического мышления, делового проектирования в области конечных целей и задач, «последних времен и сроков», традиционно считающейся метафизической и бывшей всегда предметом лишь пассивной веры, визионерства или отвлеченных спекуляций. Завершая краткое рассмотрение «Смысла любви», спросим: есть ли в этой работе какие-нибудь, пусть самые общие, указания на конкретные способы управления эротической энергией в деле трансформации человеческого организма из природно-смертного в божественно-бессмертный? «Сила же этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов» (с. 547). Тут мы сталкиваемся с ценной интуицией: раскрыть, умножить, мобилизовать творчески-преобразовательные ресурсы организма можно через внутреннюю концентрацию производительной, родотворной энергии. Интересно следующее замечание философа: если человеческая деятельность станет воистину сознательной, определяемой идеалом всемирной сизигии, тo она сумеет произвести или освободить реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальною средою, одухотворяют ее». Здесь прозрение каких-то токов самого человеческого организма, направленных на окружающий мир и преображающих его.
Как раз эту замечательную интуицию развил в 20-30-х гг. нашего века последователь учения Н.Ф. Федорова А.К. Горский. Его личность, литературное и философское наследие еще ждут раскрытия во всей своей поразительной глубине и значении; то же относится и к целой никогда не прерывавшейся в России цепочке мыслителей – продолжателей, пропагандистов, хранителей традиции «всеобщего дела». Активная деятельность Горского простирается на целое тридцатилетие, он публикует ряд стихотворных сборников, статей и исследований под псевдонимом Горностаев и Остромиров. Однако значительное количество его работ осталось в рукописи, в том числе неоконченный «Огромный очерк» (1921–1926), в котором он ищет свои подходы к интересующему нас вопросу.
Областью своего исследования Горский берет для начала искусство, точнее, глубинную психологию творческого акта; здесь – бродильный чан внутренних эротических сил, дистиллируемых в прекрасную мелодию, картину, образ. Это уже достаточно понятно и признано: и то, что в творческом акте осуществляется сублимация; и то, что искусство творит новое: жизненные формы, типы, отношения. Искусство – модель творения жизни и, как всякая модель, есть лишь схематическое, искусственное предварение. Горский цепляет свою мысль за то волнение организма художника (входящее основной составляющей в то, что называется вдохновением), которое в конечном счете опредмечивается в художественное произведение. Некое волнение, волну организма художник неудержимо стремится вынести вовне, запечатлеть материальными средствами, закрепить во внешней среде. В творчестве выражается потребность расширения себя за пределы своей природно ограниченной формы; искусство – греза о новом теле, расширенном и вечном. Сюда же присоединим и взгляд Федорова на искусство как попытку мнимого воскрешения. Мыслитель выводил начало искусства из погребальных обрядов, отпевания, попытки удержать облик умершего в живописном или скульптурном изображении, т.е. восстановить его хотя бы мнимо, искусственно, и эта потребность – в бесконечном усложнившемся виде, от эпического искусства, длинного предания о героических деяниях наших предков, до современных форм – проникает все искусство: ту кристаллизацию текучих, преходящих жизненных форм в прекрасные и вечные, то воскрешение и запечатление бывшего и жившего, то творческое прощупывание новых форм жизни, которое происходит в нем. Искусство – прообраз воскресительного акта, и даже самого его типа реализации: творческое созидание вместо рождения (сублимация эротической энергии в искусстве), наконец, восстановление жизни как бы «из себя», рождение из себя наших отцов и матерей (в искусстве из себя, из волнений организма конструируется новая форма).
Горский обнаруживает, что «законы движения потока образов – вихрей воображения, заправляющих поэтическим творчеством, однородны с законами сновидения, сновидческого воображения». Он выделяет три из них: автоэротическую зеркальность, внутрителесность пространства и органопроекцию. Автоэротизм, который представлен в психоаналитической школе как глубиннейший импульс всех психофизиологических процессов, «строится на эротическом влечении, эротическом восхищении собственным телом в его целости». Автоэротизм – это любовь к своему организму в его идеально полном целом, «каким бы он хотел быть». Образ музы и есть возникновение в поэтической мечте существеннейшего, с противоположным «половым» знаком дополнения самого себя. Эту мечту движет чаяние достигнуть страстно желаемой целостности (предощущаемой в автоэротическом восчувствии своего тела), той единой, оцеломудренной природы, о которой как идеале говорили и Федоров, и Соловьев.
Внутрителесность пространства (сновидческого, а далее и художественного) выражает особый построительный принцип форм, являющихся во сне, – пейзажей. сочетаний живых образов и т.д., которые представляют собой наложение (путем зеркального увеличения) телесной схемы спящего (извивов и контуров его тела). В творчестве же «поскольку круг свободного проявления изливаемых лирических волн начинает казаться неограниченным, постольку, естественно, исчезает, стирается та условная черта, которая отделяет изолированное «тело», крохотный кусочек «внутреннего» мира от чуждой и давящей «внешней» среды. Зрение окончательно торжествует над осязанием».
Наконец, проецирование вовне какой-то части тела, одного из органов, берущегося представлять весь организм, и есть органопроекция. Особым случаем органе-проекции является органодеекция (отсечение проецируемого органа, скажем головы, носа, бороды и т.д., символизирующего, как правило, мужские гениталии), тесно связанная с кастрационным комплексом. Рассмотрение органодеекции, окончательным выражением, крайним случаем которой является сама смерть, неизбежная при теперешнем типе сексуальности, полового размножения, позволяет Горскому подойти к самому средоточию темы, выявить свое существенное расхождение с некоторыми положениями сексуальной теории Фрейда. Главный ее ущерб в том, что «психоанализ совпадает с границами мужской психики». Горский пытается выйти за границы мужского либидо с его «кастрационным комплексом», выбором сексуального объекта по принципу опоры (комплекс материнской груди, откуда пассивное, даже если и трагическое, приятие матери-земли, порождающей и поглощающей природной утробы, земной судьбы), выдвигает женский тип эротики. У женщины «органы воспроизведения глубоко запрятаны внутрь, а наружу выведены лишь излучения, неопределенно очертанные силовые линии и «волны», «одевающие» окружающее тело». Ходовой взгляд нам известен: мужское есть изобилие, избыток, женское – недостаток, ущемленность, связанная с отсутствием пениса, как бы уже проведенной кастрацией. У Горского наоборот: «специфически женское есть всегда избыточное», при развитии эротической области у девочки в отличие от мальчика отсутствует точечная сосредоточенность на четко оформленном пенисе; «комплекс эмоций-представлений» созревающей женщины «сохраняет неопределенную (и разнообразно определяемую в любой момент) расплывчатость, расширенность, пластичность, постоянную волнуемость своей сферы. Ощущение постоянного переполнения, избытка излучаемой энергии вследствие, очевидно, большего участка слизистой влажной поверхности половых органов создает то настроение, о котором говорит Лермонтов: «Молодая душа в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована». Это облачное, эротическое окружение, расплывчатое, обволакивающее, выходящее во внешнюю среду, пронизанное атмосферой автоэротической зеркальности, которая осуществляет – через принцип отождествления – завоевание телом пространства, Горский называет магнитно-облачной эротикой. Ей он придает особую ценность в деле будущей метаморфозы человеческого организма в самосозидаемый и бессмертный.
Этот тип эротики представляется мыслителю более перспективным для реализации задачи расширения человеческого организма вовне, волнового овладения внешней средой. Важное значение в этом имеет зафиксированное исследователями расширение эрогенных зон, возникновение экстрагенитальной, кожно-мышечной эротики, частичное превращение кожи в проводник органической энергии. Горский приводит мнение немецкого ученого (Зангера) о том, что такая эротика имеет автоэротическую природу, таит в себе огромные возможности для сублимирования, обладает способностью концентрировать, накапливать большие запасы эротической энергии. Собственно генитальная сексуальность, на которой основывается размножение, – предельно расточительный способ передачи жизни: осуществляется «разряд органической энергии в точках наименьшего сопротивления, происходит как бы хаотический взрыв, гибель и рассеяние драгоценнейших жизненных клеток», лишь ничтожная их часть служит для зачатия новой жизни. Но и развитие кожно-мышечной эротики, даже если представить, что вся кожа сумеет превратиться в эрогенную зону, само по себе не дало бы пока никаких новых способов созидания жизни, не вышло в практически-преобразовательный результат. «Найдем ли способ поддерживать, воспроизводить жизнь не бессознательным животным, но сознательным образом (с участием мозговых центров)?»
Следующий этап мысли Горского – поиски конкретного направления этого преобразования. Он выдвигает, основываясь на рефлексологии, психодинамике Штауденмайера и теории нервной энергии Бекнева, следующее положение: восприятие есть начало воспроизведения. «...Всякое восприятие энергии, усиливаясь, вызывает со стороны организма реакцию в виде выделения энергии, а это есть уже форма воздействия, всякое же воздействие на внешнюю среду стремится в конечном итоге к воспроизведению себя в ней... Значит, всякий орган восприятия может или мог бы стать при известных условиях органом воспроизведения». Высшим органом восприятия у человека является зрение, развившееся из кожно-осязательного чувства, оно неимоверно раздвинуло горизонт контакта человека с внешним миром. В эротическом чувстве торжествуют кожно-мускульно-осязательные ощущения. Могут ли для начала эти осязательные ощущения преобразоваться в высшие, в зрительные? Да, это постоянно происходит, во-первых, в сновидении, где эротически-осязательные ощущения являются в виде зрительных образов. Искусство веками осуществляло некий, пока приблизительный, перевод этих соответствий на мифологический, символический и образный язык. «Сновидение и есть какой-то непрестанный контакт взаимодействия между органами зрения и органами воспроизведения, что мифологически, символически выражается концепцией фаллического зрачка», когда половой орган представляется как бы огромным глазом. Сюда же примыкает восточное представление о третьем глазе мудрости, который также есть как бы некая вершина «фаллического зрачка»; этот глаз открыт трансмутированной половой энергией, ее пучком, пронизавшим весь темный туннель тела. На другом более сознательно и волево́ направленном и организованном уровне, чем в сновидении, тот же переход эротических импульсов в формопостроительные, осязания в зрение происходит в искусстве.
Гёте отмечал родство глаза и света, свет порождает орган зрения, и глаз же сам себя освещает во сне. Каждая человеческая по́ра, кожная клетка в потенции могут стать органом зрения, в определенных условиях покрыться светочувствительной пленкой и прозреть. Науке известны случаи внеретинального, или парапнотического, зрения, когда ярко освещенный объект зрительно воспринимается не глазами, а кожей, в которой есть особенно чувствительные к такому «зрению» участки: концы пальцев, грудь выше солнечного сплетения, затылок и задняя часть шеи. Французский ученый Жюль Роменс, на опыты которого ссылается Горский, считает, что рассеянная, распространенная по всему телу способность видеть в зародышевом состоянии присуща каждому человеку. «Так оправдываются мифологические и легендарные представления о прозрачном, прозревающем теле. Плоть полна очей. Мы таинственно изображаем собой многоочитых херувимов», – пишет Горский.
Основанием самого смелого скачка его мысли послужило явление так называемого внутреннего или мысленного зрения, т.е. способность совершенно отчетливо представить образ или предмет и «увидеть» его перед собой иногда даже совершеннее, чем обыкновенными глазами: одновременно все четыре стены комнаты, все грани предмета, его обратную сторону и, наконец, самого себя в каком-либо окружении и т.д. Это есть как бы сознательно вызываемый мираж. Горский приводит пространную выдержку из рассуждений немецкого ученого, профессора экспериментальной химии Людвига Штауденмайера (1865–1933), изложенных им в книге «Magie als experementalle Naturwissenschaft » («Магия как экспериментальное естествознание». Leipzig, 1912), которая позволяет вообразить пусть пока сугубо фантастически возможное развитие такой способности. Немецкий ученый ставит вопрос: может ли человек стать творцом реальных и объективных галлюцинаций? «Предположим, что мы вызвали оптическую галлюцинацию, очень жиро представляя себе свет либо какой-нибудь образ и тем самым возбуждая свою сетчатку; галлюцинацию эту мы отчетливо созерцаем как реальный предмет, находящийся вовне. В таком случае мы непроизвольно и необходимо проецируем этот предмет в определенный пункт пространства... Но для того, чтобы проецировать галлюцинацию в определенное место пространства, нам приходится аккомодировать глаз, т.е. устанавливать определенным образом оптический аппарат глаза... Но дело не ограничивается одним возбуждением сетчатки. Это возбуждение сообщается и окружающему эфиру, который начинает колебаться соответственным образом. Но колебания эфира мы называем светом. Таким образом, возникает настоящий свет. Свет этот, произведенный сетчаткой, проходит сквозь преломляющие среды глаза в направлении, обратном обычному, следовательно, через стекловидное тело, хрусталик, зрачок и т.д. во внешнюю среду. В результате там, где мы представляли при галлюцинации свет или оптический образ, возникает настоящий свет или настоящий образ. <...> Итак, мы делаем следующее принципиальное допущение: всякий аппарат, который может воспринимать колебания эфира (свет), в случае надобности может возбудить и соответствующие эфирные волны. Точно так же аппарат, чувствительный к воздушным колебаниям (звукам), может вызвать в свою очередь воздушные колебания (звук), если только поток энергий пойдет по всему аппарату в обратном направлении». Таким очень приблизительным пока способом уже провидится некоторая реалистическая возможность для превращения органов восприятия в органы воспроизведения, воспроизведения жизненных форм путем сознательного творчества, заменяющего бессознательное половое рождение. Узкогенитальная область действия полового воспроизведения прорывается и охватывает на высшей, сознательной ступени весь организм человека. Магнитнооблачная эротика, привилегия расцветающего женского тела, питающая собой сонную грезу и творческую мечту, теперь уже сознательно направленная, служит внедрению человеческого организма в мир, световому его наступлению на преображаемую внешнюю среду. В следующих словах Горского – образное резюме проекта этой дерзновеннейшей метаморфозы: «Если все тело (не исключая и головы, которой тогда незачем отсекаться – как это происходит сейчас в ситуации, «когда не думает никто». – С. С.) станет как бы сплошным фаллосом, как это ощущается в снах полета, т.е. вся кожа станет в полной мере эрогенной зоной, эрекция половых органов распространится равномерно н,а все другие, то все они начнут выполнять (и уже сознательно, т.е. координируясь, сообразуясь друг с другом) функции воспроизведения – внедрения светового чертежа (образа) в хаотическое море тьмы и переработки с его помощью неорганической (неорганизованной) материи в органическую: мертвой в живую». Тут мы снова сталкиваемся с упорной, навязчивой интуицией всех предвосхищений половой метаморфозы, которые существовали в культуре: творение новых бессмертных форм – вместо полового рождения ограниченных и смертных – прозревается происходящим «из себя», из энергий и потенций самого человеческого организма; из себя же, возможно, человек, сын человеческий, будет «рождать» и «лучевые образы» отцов (выражение, промелькнувшее на страницах «Философии общего дела» и ставшее предметом изображения художника 20-х гг. В. Чекрыгина), обретающих одухотворенно материальную реальность. Горский развил свое видение метаморфозы по преимуществу образно-метафорически – через раскрытие религиозных, мифологических, литературных тем, мотивов и образов.
По-настоящему точная и научная постановка задачи преодоления полового рождения и трансформации эротической энергии возможна только в результате совокупных опытных, практических усилий. Тогда же обнаружатся конкретные возможности и пределы преображения природы человека. Пока же вопросов в связи с идеей «метаморфозы пола» немало. Вот один из них: а как же быть с теми, каждый раз новыми, бесконечно прелестными (для родительского сердца в особенности) существами, которые сейчас производит слепой случай полового соединения? Что ж вовсе не будет новой жизни, новых индивидуальностей? Почему же: новая жизнь будет не рождаться, а твориться, что может осуществляться в любом желаемом изобилии, но главное – в красоте и совершенстве. Как? Зачем сейчас гадать? Богоподобное человечество, управляющее всеми процессами движения жизни, материи, духа, овладевшее, по словам Федорова, «секретами метаморфозы вещества», не должно встретить непереходимых препятствий в деле сознательного творчества уникальной и равной по достоинству индивидуальной жизни (то, что в уродливом, бесконечно несовершенном виде человеческое воображение представило в форме гомункулуса и беспрестанно духовно тренирует в искусстве, творящем новые существа и формы). А кто знает, может быть, сохранится и половое рождение, но в какой-то высшей, сознательно регулируемой форме. Ответ – только в опыте и деле, направляемом самой доброй и духовной сердечной мечтой.
Кстати, в самом общем плане целеполагания возможен некий курьез понимания, который надо сразу развеять. Может показаться, что пол и половая любовь в ее теперешней форме будут преодолеваться путем слияния мужчины и женщины в некое третье высшее андрогинальное существо, так что, скажем, человечество, воскресив и преобразив весь состав прежде живших поколений, окажется численно вдвое меньшим: из двух существ выйдет одно. Даже чисто теоретически такой взгляд должен быть тут же отброшен, ибо он предполагает какое-то всеобщее погашение личностей, их смерть для рождения в третьем, которое ведь будет уже новой личностью. Преодоление половой односторонности на пути создания «абсолютной и бессмертной индивидуальности» (В.С. Соловьев) может мыслиться только как восполнение в себе каждым человеком «половинки» противоположного пола, как вбирание в себя его качеств.
Эротические влечения, родотворные энергии призваны выйти из присущей им «слепой» сферы неконтролируемых порывов и бессознательно творимых результатов в светлый круг исследования, труда и нравственного подвига, круг, захватывающий и преображающий естество человека. Для создания такой необычной деятельной сферы (назовем ее проективной, преобразовательной эротикой) должны слиться все те способности и возможности, которые развил в себе человек: чувство и интуиция, вера и знание, опыт подвижников и мечта философов, искусство и наука.
Однако сама постановка задачи творения новой жизни встречала среди некоторых христианских мыслителей принципиальное возражение. Так, С.Н. Булгаков в «Философии хозяйства», развернув возможные, религиозно приемлемые формы человеческого действия в мире, даже допустив с оговоркой «быть может», и федоровское дело восстановления сотворенной Богом сознательной жизни, ушедшей в смерть, категорически накладывает запрет на творение новых жизненных форм. В такого рода дерзании он усматривал «человекобожество», узурпацию человеком божественной привилегии. Возможно, что такой запрет, который, кстати, высказывал и Н.Ф. Федоров («Творить мы не можем, а воссоздавать сотворенное не нами, но разрушенное по нашему неведению или по нашей вине мы должны...»), вполне действителен на стадии земного, смертного, несовершенного человека, даже вставшего на траекторию восхождения к новой божественной природе. Но когда человек, очистившись от первородного греха, стряхнув с себя греховную, ветхую природу, достигает божественно-благодатной ипостаси, уподобляется природе своего Создателя, то он как раз вступает в бессмертный и творческий зон бытия, где такого рода запрет на творчество жизни должен уже потерять свою силу. Выход в вечность знаменует как раз начало истинно свободного, ликующего, бесконечного творчества в благе и красоте, распространенного на всю Вселенную.
Космос, космическое и в художественном и в философском сознании чаще всего представлялись воплощением беспредельного, абсолютного, недоступного ограниченному человеческому пониманию, являлись предметом глубинной медитации, высокого восхищения, смешанного с трепетом ужаса перед бездной бытия. Созерцание высекало из человека искры философского самосознания: как я мал, ничтожен, бренен, а он, космос, велик и вечен; или: я сам – микрокосм, частичка, родственная огромному Целому, как хорошо слиться с ним в невыразимом чувстве единения со стихиями мира, вплоть до хаотической его подосновы! Созерцательное отношение или экстатически-религиозное переживание единства человека и космоса, уходящее в глубокую древность, преобладало тысячелетия и века. И только с Федорова и Циолковского и других мыслителей-космистов в философию и науку входит требование преобразовательной активности со стороны человечества (так сказать, соборного микрокосма), направленной на макрокосм.
Разрабатывая свой проект регуляции, Федоров с самого начала подчеркивал неотделимость Земли от космоса, тонкую взаимосвязь происходящего на нашей планете с целым Вселенной. В XX в. исследование земно-космических взаимосвязей стало уже целым направлением в научном творчестве. А.Л. Чижевский с начала 20-х гг., обработав огромный статистический материал, показал, что периоды стихийных бедствий, эпидемических и инфекционных заболеваний совпадают с циклами солнечной активности. В ходе же дальнейших исследований и экспериментов обнаружил: биологические и психические стороны земной жизни связаны с физическими явлениями космоса: подобно чуткому нервному узлу. каждая живая клетка реагирует на ту «космическую информацию (термин, введенный Вернадским), которой пронизывает ее «большой космос». Само явление жизни на Земле – продукт деятельности всего космоса, здесь, как в фокусе, сосредоточились и преломились его творящие лучи. Основатель космо-биологии, Чижевский уже не как философ или натурфилософ-мечтатель, а как строгий ученый способствовал разрушению такой, по существу не научной, а умозрительной и метафизической картины мира, в которой жизнь и человек были отделены от космоса.
Один из учеников Вернадского – украинский академик Н.Г. Холодный ввел в обиход активно-эволюционной, космической мысли новое мировоззренческое понятие, названное им интропокосмизмом. Развито оно им было в небольшой философской работе, изданной крошечным тиражом для узкого круга (Ереван. 1944), кстати тут же посланной им Владимиру Ивановичу. В ответ Вернадский писал: «Получил Вашу книжку «Мысли дарвиниста о природе и человеке, сейчас ее кончаю. Хочу ответить Вам тем же путем «на правах рукописи», веду переговоры с издательством. Я считаю, что обсуждение этих основных вопросов в науке является чрезвычайно важным в настоящее время, в данный исторический момент»30. «Несколько слов о ноосфере» и были этим ответом. Антропокосмизм у Холодного противопоставляет себя антропоцентризму, этому «первородному греху» человеческой мысли, не только ставящему человека в центр мироздания, но и отрывающему его от природы, от своих «меньших братьев^ но эволюции, от космоса. Антропокосмическое понимание сводит человека с его тропа исключительности, видя в нем «одну из органических составных частей^ и этапов развития космического целого. Утверждая родство человека с другими жизненными формами и силами, даже своеобразный «долг» перед ними (выносившими его к бытию), антрснокосмическая установка отвергает гордынное покорение этих сил. Да, че-ювек не есть некое суверенное и автономное существо в мироздании, он неотделим от судеб космического развития, но возникает и обратная зависимость: человек «становится одним из мощных факторов дальнейшей эволюции природы в обитаемом им участке мироздания, и притом фактором, действующим сознательно. Это налагает на него громадную ответственность, так как делает его прямым участником процессов космического масштаба и значения»31. В сознательную эволюцию Холодный включает и биологический (а следовательно, и психологический) прогресс человечества», который – в настоящее время более, чем когда-либо раньше, неотделим от прогресса социального» «На еще более высокую ступень эволфции» человека смогут поднять «его разум, свободная воля и нравственные идеалы»32.
Такого рода идеи близки всей активно-эволюционной космической мысли XX в.: и К.Э. Циолковскому, и А.Л. Чижевскому, и В.И. Вернадскому, и прежде всего видение космичности явлений жизни и человека. В докладе 1931 г. «Изучение явлений жизни и новая физика» Вернадский поставил вопрос об остром противоречии, возникшем между «сознанием мира», лежащим в глубине человека, и «его научной картиной», господствовавшей ряд столетий, которая была основана на физико-химических явлениях и к ним же ныпиккь в конечном счете свести и жизнь, и сознание. Только религия и философия в разной степени и каждая по-своему если не разрешали, то как бы утоляли это противоречие, отвечая стремлениям человеческого сердца, внутреннему убеждению в особом значении жизни, уникального «я». Новый импульс своему развитию философская и религиозно-философская мысль получила от эволюционной теории, но последняя тем не менее так и не вошла в научную картину космоса, так как в последней «нет места жизни». Вернадский указывал на огромное значение этой мысли последних семидесяти лет. В нее входят и идеи «творческой эволюции» Бергсона, и ноосферные концепции Леруа и Тейяра де Шардена, но главное – построения русских космистов Сухово-Кобылина, Умова, Федорова.
Сюда же надо отнести и «космическую философию» К.Э. Циолковского, развивавшуюся им в серии философских работ, которые он сам издавал в Калуге. Циолковский называл себя «чистейшим материалистом». Он действительно признавал существующий во Вселенной одну субстанцию и одну силу – материю в ее бесконечном превращении: «Этими явлениями синтеза и анализа совершается вечный круговорот материи – то образующий солнца, то разлагающий их в эфир и очень разреженные, невидимые массы... Но кроме этого колебательного, или повторяющегося (периодического), движения возможно общее усложнение материи, так что периоды несколько отличаются друг от друга, именно все большею и большею сложностью вещества. Есть ли конец этому усложнению и не начнется ли снова упрощение – неизвестно»33. Циолковский стоял на представлениях до-релятивистской и до-фридмановской физики; концепция «большого взрыва», сингулярной, «нулевой» точки, из которой началось расширение и развитие Вселенной, возникла уже позже. Интересно, что именно модель ньютонианского бесконечного Универсума с такими же бесконечными временем и пространством, долго господствовавшая в научной картине мира, благоприятствует таким натурфилософским построениям, которые подспудно питаются восточной древнеиндийской метафизикой с ее повторяющимися мировыми циклами, перевоплощением существ и т.д. Элемент такой «дурной бесконечности», нескончаемых круговоротов гигантских периодов развития (то, что Андрей Белый называл «пусто-воротами бытия») присутствует в космософии Циолковского. У космистов христианской ориентации, начиная с Федорова, за основу бытия берется направленная линия развития (кстати, более отвечающая современным физическим представлениям). При их онтологической предпосылке (вере) мир должен иметь начало, быть направленным или получить сознательное направление, стремиться к некоей совершенной точке, которая уже в свою очередь распустит концентрические лучи нового бытия (сверхжизнь и сверхсознание, вечность). Это, безусловно, эволюционная (в биологическом плане), историческая (в социальном) интуиция, архетипически высказанная в христианской модели мира. Это не замкнутый круг бесконечной игры-превращений вселенских элементов в античном или древнеиндийском Универсуме, который принципиально не может быть прерван выходом в новое качество. Правда, Циолковский, так же принимая кругооборот, как самый общий тип развития, все же признает в нем огромные отрезки восходящего, усложняющегося развития, но с последующим «разложением», «упрощением», возвратом в более элементарную форму и опять – новым витком еще большего усложнения, и так до бесконечности.
В представлениях «калужского мечтателя» жизнь в космосе буквально кишит в самых разнообразных формах (до невероятных) и на различных ступенях развития, вплоть до совершеннейших, высокосознательных и бессмертных ее представителей. В натурфилософском видении Циолковского мы сталкиваемся с особым пантеистическим «панпсихизмом». Константин Эдуардович представлял себе Вселенную единым материальным телом, по которому бесконечно путешествуют атомы, покинувшие распавшиеся смертные тела, атомы, которые и есть неразрушимые «первобытные граждане», примитивные «я». Настоящая блаженная жизнь для них начинается в мозгу высших, бессмертных существ космоса, притом что огромнейшие промежутки «небытия», нахождения в низшем материальном виде, как будто и вовсе не существуют. Гарантией достижения бессмертного блаженства для мозговых атомов становится уничтожение в масштабах Земли и космоса несовершенных форм жизни, подверженных страданию, куда эти атомы могли бы попасть. (Для Циолковского это приложение теории «разумного эгоизма» к «научной этике».) Сильное влияние на него как мыслителя, оказанное Писаревым и в известной степени Чернышевским, неожиданно и причудливо проявилось в этической стороне его космической утопии, в которую также вплелись наивно трансформированные буддийские мотивы переселения душ (на атомном уровне) и отталкивания от «низких форм» телесного воплощения. Такой атомный трансформизм, нечувствительность к проблеме личности, некоторые «селекционные» мотивы были бы совершенно чужды, скажем, тому же Федорову, но их сближает другое, то, что было общим для всей активно-эволюционной мысли: убежденность в том, что разумная преобразовательная деятельность – важнейший фактор эволюции, призванный вести мир к большему совершенству и гармонии.
Но сильнее всего сближает Циолковского с Федоровым идея неизбежности выхода человечества в космос. Именно Федоров еще с середины прошлого века первым стал разрабатывать эту идею, причем разрабатывать основательно, с самых различных сторон, от природных и социально-экономических до нравственных. Аргументы «за» у него разнообразны: невозможность достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависящей от всего космоса, который также изнашивается, сгорает, «падает»; вместе с тем в бесконечных просторах Вселенной должны разместиться и мириады воскрешенных поколений, так что «отыскание новых землиц» становится приготовлением «небесных обителей» отцам. В философской и научно-популярной литературе сейчас много пишут о том, что с наступлением эры космоса открывается реальная возможность предотвратить в далеком будущем неизбежный конец человеческой цивилизации. Но уже Федоров видел единственный выход для человечества, упирающегося в неотвратимый земной финал (истощение земных ресурсов при все большем умножении численности населения, космическая катастрофа, потухание Солнца и т.д.), – в завоевании новых сред обитания, в преобразовании сначала Солнечной системы, а затем и дальнего космоса: «Мы должны спросить себя: знание об ожидающей землю судьбе, об ее неизбежном конце, обязывает ли нас к чему-либо или нет?.. Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода из одного мира в другой только кажущаяся... отказавшись от обладания небесным пространством, мы должны будем отказаться и от разрешения экономического вопроса... и вообще от нравственного существования человечества». Для Федорова «сложить руки и застыть в страдательном (в полном смысле этого слова) созерцании постепенного разрушения нашего жилища и кладбища» – глубоко безнравственно и недостойно человека.
Русский мыслитель неоднократно указывал на неоскудевающее стремление человека выйти за границы только земных забот, подняться «к небу». Эта реальная потребность «горнего» энтузиазма извращалась в мифические экстазы, «хождения, восхищения на небеса... всякого рода видения, ревивали, спиритические фокусы и т.п.». Только такая безбрежная область деятельности, как овладение космосом, идущее вместе с преобразованием природы самого человека, «этот великий подвиг», по словам Федорова, сможет привлечь к себе и бесконечно умножить энергию ума, отваги, изобретательности, самоотверженности, всех совокупных духовных и душевных сил, которые сейчас растрачиваются на взаимную борьбу или распыляются по пустякам.
Глубоко вдумываясь в исторические судьбы своей страны, русский мыслитель предвидел, что она первой проникнет в околоземное пространство. У него есть поразительный для его времени ясный ответ на смутные чаяния Гоголя: «Русь, Русь, что пророчит сей необъятный простор?»: «Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров (Федоров имеет в виду богатырский, удалой русский тип. – С. С.): наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига»34. Таким характером, личностью, обладавшей даром видеть конкретную перспективу развития человеческого общества в его отношении к природе и космосу, стал Циолковский, один из немногих, кто еще при жизни Федорова понял великое значение его космических идей.
Замечательно точны слова Циолковского: «Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль». Сам он решительно приступает ко второму этапу этой последовательности, выводит ставшую теперь знаменитой формулу конечной скорости движения ракеты, посвящает свое научное творчество техническому обоснованию ракеты как пока единственно целесообразного снаряда для космических путешествий. Свою веру в реальность полетов за пределы земной атмосферы Циолковский основывал на расчетах условий для жизни в невесомости, что ныне является обычной практикой космонавтики.
Одновременно с инженерно-технической разработкой «безумных», казавшихся несбыточными проектов Циолковский теоретически обосновывает будущую космическую экспансию человечества. И здесь он был своеобразным мыслителем, не боялся идти тем «странным путем», который, по его мнению, в науке «неизбежен и может быть плодотворнее прямого и ясного». «Калужский мечтатель» борется с пессимистическими выводами из энтропийных постулатов науки его времени, утверждая неуничтожимость жизни во Вселенной, возможность «вечной юности» при предпосылке гигантской творческой активности разумных ее сил.
Федоров отмечал две фундаментальные ограниченности нынешнего человека, тесно связанные между собой. «Ограниченность в пространстве препятствует повсеместному действию разумных существ на все миры Вселенной, а ограниченность во времени – смертность – одновременному действию поколений разумных существ на всю Вселенную»35. «Борьба с разъединяющим пространством» для Федорова, «первый шаг в борьбе со всепоглощающим временем»36. Ибо бессмертие возможно только при условии преодоления изолированности нашей Земли от космоса и при одновременной регуляции космических явлений: «Каждый обособленный мир по своей ограниченности (средств к жизни. – С. С. ) не может иметь бессмертных существ»37. Циолковский подтверждает эту основополагающую мысль о взаимосвязанности и взаимозависимости двух глобальных побед человечества: над пространством и временем. Ареной практически бессмертной жизни является только космос, бесконечный и неисчерпаемый в своих энергетических и материальных ресурсах. Именно выход в космос может обеспечить поддержание неопределенно долгой жизнедеятельности организма, но и, напротив, только долгоживущие и бессмертные создания с радикально трансформированным организмом окажутся способными выжить в самых невероятных внеземных средах, освоить и преобразить Вселенную. Выразительно писал Купревич в статье «Путь к вечной жизни» (Огонек. 1967. № 35) «Человек, живущий несколько десятилетий, так же не способен преодолеть межзвездное пространство, как бабочка-однодневка не может преодолеть океан». Близкую идею о том, что человек по-настоящему выйдет в космос тогда, когда его организм обретет более высокую эволюционную ступень развития, высказывал и Вернадский: «Ограниченность разума, как эволюционного, а не стабильно-конечного проявлений жизни, и наличность в нашей видовой стадии организма тех высших форм сознания, которыми будет в полной и ясной мере обладать тот вид (homo sapiens) или род, который нас заменит. И должно быть это геологически скоро, так как мы переживаем психозойскую эру. Структура мозга будет изменена по существу, и этот организм выйдет за пределы планеты»38.
Интересно, что в начале 20-х гг. наблюдается огромный общественный интерес к космосу, к проблемам межпланетных сообщений, к идее овладения стихийными силами природы. Характерным для этого времени оказывается движение биокосмистов, выступивших как раз с двумя неразрывно связанными лозунгами «интерпланета-ризма – завоевания космоса и иммортализма – осуществления бессмертия личности»39. Свой биокосмический максимализм они рассматривали как достижение революции. Для них борьба со смертью, с враждебными человеку слепыми природными стихиями – продолжение борьбы за социальную справедливость. Был выдвинут лозунг: «Пролетариат – победитель буржуазии, смерти и природы». Э основании личности биокосмистами утверждается «инстинкт бессмертия, жажда вечной жизни и творчества»40. Именно революционный подъем дает, по их убеждению, импульс личности «расти в своих творческих силах до утверждения себя в бессмертии и в космосе», преодолеть «локализм» во времени и пространстве. Причем «пролетарское человечество, – как писал П.И. Иваницкий, – конечно, не ограничится осуществлением бессмертия только живущих, оно не забудет погибших за осуществление социального идеала, оно приступит к освобождению «последних угнетенных», к воскрешению прежде живших». Манифест биокосмистов печатается в газете «Известия» (4 января 1922 г.), в издательстве ВЦИК публикуется (анонимно) книга «О пролетарской этике», развивающая вышеприведенные идеи, наконец, выходит несколько номеров газеты «Биокосмист. Креаторий российских и московских анархистов-биокосмистов» (№ 1-4, март-июнь 1922 г.). Их выступления поражают своим наивно-декретивным, широковещательным характером. Движение биокосмистов было неоднородным и противоречивым, соединяя в себе несоединимое: требование нравственного долга, конкретной терпеливой работы в области регуляции природы, борьбы со старением и смертью и анархического воспевания «божественной» свободы обретшего бессмертие индивида. Теневые стороны движения преимущественно проявились у его главы поэта А. Святогора (наст. фамилия Агиенко). Отмежевавшаяся от него «северная группа биокосмистов-имморталистов» выпустила в ноябре 1922 г. первый номер журнала «Бессмертие». Была налажена связь с Циолковским, обещавшим свои материалы в следующие номера журнала, которым так и не было суждено увидеть свет. Ибо даже в лучших своих сторонах манифесты, призывы и стихи биокосмистов являлись иллюстрацией этакого авантюристически-лихого наскока на будущее, дерзкой попытки одним волевым усилием и горением нетерпеливого сердца преобразить людей и мир. И в этом они были знамением времени.
Можно говорить о целом послереволюционном космическом направлении чувств и умов, которое наиболее взволнованно и утопически-дерзновенно выражала поэзия. В ней в это время настойчиво звучали еще неслыханные ранее темы всеобщего труда, радикального преобразования мира и природы, борьбы со смертью, овладения космосом. Революционная эпоха – в стихах и статьях многих пролетарских, да и не только пролетарских, поэтов, от В. Кириллова и М. Герасимова до А. Гастева и И. Филипчен-ко, от «Ладомира» В. Хлебникова до небольших поэм С. Есенина 1917–1919 гг., таких, как «Инония», – воспринимается как не просто обычная социальная революция, а грандиозный катаклизм, начало «онтологического» переворота, призванного пересоздать не только общество, но и Землю (господство над стихиями, превращение самой планеты в управляемый космический корабль) и жизнь человека в его натурально-природной основе.
Подобное направление поисков – яркая черта эпохи. Известный историк марксистской ориентации Н.А. Рожков в книге «Смысл и красота жизни» (Пг.; М., 1923) писал о своей уверенности, что «в отдаленном будущем для человечества открывается возможность всемогущества в полном смысле этого слова, вплоть до общения с другими мирами, бессмертия, воскрешения тех, кто жил прежде, и даже создания новых планет и планетных систем». (Кстати, свои взгляды на физическое бессмертие, понимаемое им материалистически. Рожков изложил еще в работе 1911 г. «Основы научной философии».)
Одна из наиболее серьезных ветвей космизма в 20-е гг. была представлена после-цователями учения Федорова Н.А. Сетницким, А.К. Горским, В.Н. Муравьевым, углублявшими наследие учителя в новом научном и культурном контексте. К ним принадлежал поэт и философ Иона Брихничев, в эти годы секретарь Центральной комис-:ии помощи голодающим при ВЦИКе (Помгол), который в своих рабочих докладах трямо высказывал федоровский подход к решению «продовольственного вопроса». Философ В.Н. Муравьев вводит взгляды автора «Философии общего дела» на труд в теоретические поиски существовавшего в те годы Центрального института труда. В книге «Овладение временем» (М., 1924) Муравьев, отправляясь от новых достижений в биологии, медицине, а также физике и математике (теория относительности, теория множеств), стремится к обоснованию идей космической экспансии, преодоления смерти и возвращения к жизни погибших.
К 30-м гг. представители космической, активно-эволюционной семьи идей начи-ают подвергаться разного рода преследованиям. Поверхностно-вульгарные разносы, бвинения в идеализме и враждебности его идей социализму обрушиваются на Вернад-кого со стороны официальных философов. Отвечая одному из них – А.М. Деборину, Владимир Иванович уничтожающе точно охарактеризовал авторов подобной кринки (в жанре полицейского доноса): «Они занимаются розыском и вычитывают в умах ученого, занимающегося биосферой, злокозненные философские построения. Такое, с моей точки зрения, комическое и банальное, но очень неблагонадежное «новое религиозно-философское мировоззрение» имел смелость приписать мне академик Деборин в результате своего розыска»41 «Опека представителей философии» того времени, опека догматическая и невежественная, далекая от понимания революционных достижений науки, в том числе и биогеохимии, не просто была тягостной и лично оскорбительной нашему выдающемуся ученому, но и обличалась им как тормоз в развитии научной работы в целом, вредящий «пользе дела, государственному благу». Вернадский объявляет себя философским скептиком, отказывающимся принять диктат той или иной философской системы (тактический шаг ученого совершенно ясен, ведь реальная угроза исходила тогда только от господствующей идеологии). Философский скептицизм стал оборонительной «башней» для натуралиста-мыслителя, в которую он ушел, защищая свое право на исследовательскую автономию, свободу профессионального мышления. И хотя большинство его учеников попали под гусеницы репрессивной государственной машины, сам Вернадский, как известно, уцелел. К сожалению, этого нельзя сказать о других мыслителях представленной здесь плеяды. П.А. Флоренский и Н.А. Сетницкий были расстреляны, А.Л. Чижевский с 1940 г. 16 лет провел в тюрьмах и ссылках, В.Н. Муравьев и А.К. Горский погибли в ссылке.
На какое-то время идеи русских космистов были погребены или отодвинуты на периферию философского и научного наследия, а то и втиснуты в затхлый его угол, где висело отпугивающее: «идеалистические бредни», «фантазии». И только в последние десятилетия началось и набирает все большую силу настоящее их возрождение.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть общие родовые черты космического, активно-эволюционного направления философского и научного поиска, осуществленного в России за последнее столетие. Прежде всего, это понимание восходящего характера эволюции, роста в ней разума и признание необходимости нового, сознательно-активного ее этапа, получающего различные названия – от «регуляции природы» до ноосферы или пневматосферы. У религиозных космистов высшая цель движения, преображенный зон бытия, носит названия Царствия Божьего, Царствия небесного.
Утверждается и несовершенство, «промежуточность» нынешней, еще кризисной, требующей дальнейшего роста природы человека, но вместе – и высокое его достоинство, преобразовательная роль в мироздании. И в религиозной ветви русского космизма, в центральной его теме богочеловечества, торжествует идея творческого призвания человека. Возникает новый взгляд на человека как не только на исторического социального деятеля, биологический или экзистенциальный субъект, но и на существо эволюционирующее, творчески самопревосходящее, космическое.
Вместе с тем субъектом планетарного и космического преобразовательного действия признается не отдельный человек, а соборная совокупность сознательных, чувствующих существ, все человечество в единстве своих поколений. Идеальным прообразом такого, по выражению С.Н. Булгакова, «целокупного человечества» у религиозных космистов выступает Душа мира, Божественная София.
Самой науке, точнее, грандиозному синтезу наук, объединенных во всеобщую космическую науку о жизни, дается новое направление развития. Ведь пока наука, основная созидательная сила современного мира, работает с равным циничным успехом и на разрушение. За это во многом ответствен тот фундаментальный выбор, который господствует в современном мире с его фактическим обожествлением нынешней природной данности человека, его естественных границ, выбор, не дерзающий их раздвигать, т.е. идеал человека, пробующего и утверждающего себя во все измерения и концы своей природы, в том числе темные и «демонические», признающиеся одинаково правомочными, идеал, отказывающийся от императива эволюционного восхождения. Научное познание и поиск призваны осуществлять себя в поле нового, активно-эволюционного выбора; в них требуется внести четкий нравственный критерий, высшую цель их усилий. Преобладающее развитие знаний о жизни, биологии, причем ввиду преобразовательно-проективной цели, критерий нравственности, призние высшего регулятивного идеала и служение ему – вот важнейшие черты науки, работающей на сознательный этап эволюции. Ноосферный, космический идеал должен быть раскрыт в такой конкретности, чтобы он мог увлечь действительно всех. Высшим благом нельзя признать просто исследование и бесконечное познание неизвестно для чего или лишь для созидания временного, материального комфорта живущим. Высшим благом может быть только жизнь, причем жизнь в ее духовном цвете, жизнь личностная, сохранение, продление, развитие ее. Такое благо, такая цель и такой предмет касаются всех без изъятия. Поэтому наука, исследование и преобразование мира должны быть всеобщими, делом буквально каждого. Недаром вершиной активно-эволюционной мысли становится персонализм – имморталистический и воскресительный.
Характерно, что русские космисты, призывавшие к интеграции всех сил и способностей человека для осуществления его высшей эволюционно-космической цели, сами явили в своей личности исключительную степень развития самых разных знаний и талантов. Возьмем самых крупных из них: Федоров – подвижник и новатор книжного дела в России, по свидетельству современников, знал содержание буквально всех книг Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека), он был настоящим мыслителем-энциклопедистом по размаху и глубине своих познаний. Владимир Соловьев был не только выдающимся философом, но и поэтом, публицистом и литературным критиком. Энциклопедизм отличает и Циолковского, ученого и инженера-изобретателя, писателя и философа; Чижевского, основателя гелио- и космобиоло-гии, мыслителя, поэта и художника; Вернадского, гениального ученого, развившего ряд новых научных дисциплин – геохимию, биогеохимию, радиогеологию, философа и науковеда; П.А. Флоренского, религиозного философа и ученого (физика, математика, искусствоведа, филолога), поэта.
Сила космистов в том, что они обосновали и нравственную и объективную необходимость активной эволюции, ноосферы. Это не просто благородное пожелание гармонизации мира, свойственное утопистам. Ноосферное направление избрано самой эволюцией, глубинным законом развития мира, выдвинувшим разум как свое орудие. Столь распространенное ощущение собственной слабости и бессилия перед лицом природного Рока, отчаяние в «спасении»-переживание не просто уныло-безобидное. Именно в нем пускают свой ядовитый корень цинизм и даже такие извращенные реакции, как злодейство, садизм, «сатанизм» разного рода. А как сильны страх и чувство безнадежности у многих людей в нынешнем мире, поставившем себя на грань самоуничтожения! «Все страхи и рассуждения обывателей, а также некоторых представителей гуманитарных и философских дисциплин о возможной гибели цивилизации связаны, – считает с полной уверенностью Вернадский, – с недооценкой силы и глубины геологических процессов, каким является ныне нами переживаемый переход биосферы в ноосферу»42. И это писалось в те годы, когда «силы варваризации» явно набирали мощь и размах, готовясь развязать ужасы второй мировой войны. И столь же хорошо известно, что с первых же дней и месяцев войны, в самые тяжелые для нашей страны моменты Вернадский в своем дневнике выражал неколебимую убежденность в поражении этих сил, ибо идут они против ноосферных процессов, против объе« тивного закона развития мира. Научными фактами, эмпирическими обобщениями Вернадский доказывает нам: работать против эволюции, против нового и объективно-неизбежного, сознательного, разумного ее этапа, преобразующего мир и природу самого человека» неразумно и бесполезно. Он дает обоснованную надежду на будущее. Но чтобы жить дальше и выполнять свою великую космическую функцию авангарда живого вещества, человек не должен стоять на месте ныне обретенного им «промежуточного» физического и духовного статуса, он должен восходить, следуя в этом закону эволюции.
Течение русского космизма имеет значение общечеловеческое: оно дает глубокую теорию, поразительные предвосхищения, глядящие не только в современные, но и в значительно более далекие времена. В наши дни, озабоченные поисками принципиально нового типа мышления, которое могло бы открыть горизонты коллективной, планетарной надежде, наследие русских космистов приобретает особую притягательную силу.
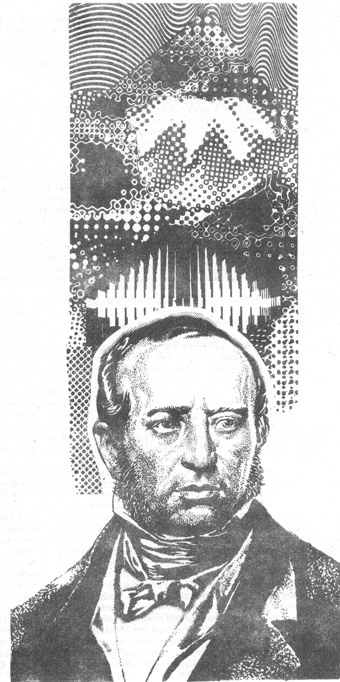 Во всяком оригинальном философском, художественном, научном направлении есть свои предтечи. Рождаются они порой десятилетиями, а то и столетиями раньше, принадлежат к разным эстетическим и философским группировкам, но как первопроходцы пролагают первые робкие тропинки мысли, оставляют в человечестве заветные зерна тех идей, которым суждено затем возрасти могучим древом, высказаться поистине новым словом. Таким пионером русского космизма был князь В.Ф. Одоевский, писатель, журналист, ученый и музыковед. Потомок древнего рода князей Рюриковичей, он получил образование в Московском университетском пансионе, вместе с литератором-декабристом В.К. Кюхельбекером в 1824–1825 гг. издавал альманах «Мнемозина», а затем журнал для народного чтения. Был чиновником Комитета иностранной цензуры, директором Публичной библиотеки и Румянцевского музея в Петербурге, принимал участие в создании Русского музыкального общества и вообще чрезвычайно много сделал для развития музыкального образования и музыкальной критики в России.
Во всяком оригинальном философском, художественном, научном направлении есть свои предтечи. Рождаются они порой десятилетиями, а то и столетиями раньше, принадлежат к разным эстетическим и философским группировкам, но как первопроходцы пролагают первые робкие тропинки мысли, оставляют в человечестве заветные зерна тех идей, которым суждено затем возрасти могучим древом, высказаться поистине новым словом. Таким пионером русского космизма был князь В.Ф. Одоевский, писатель, журналист, ученый и музыковед. Потомок древнего рода князей Рюриковичей, он получил образование в Московском университетском пансионе, вместе с литератором-декабристом В.К. Кюхельбекером в 1824–1825 гг. издавал альманах «Мнемозина», а затем журнал для народного чтения. Был чиновником Комитета иностранной цензуры, директором Публичной библиотеки и Румянцевского музея в Петербурге, принимал участие в создании Русского музыкального общества и вообще чрезвычайно много сделал для развития музыкального образования и музыкальной критики в России.
Литературное наследие В.Ф. Одоевского разнородно по жанрам и тематике. Он писал философские новеллы и музыковедческие эссе, рассказы-притчи и философские романы. Не пренебрегал и светской повестью. Но все это жанровое и тематическое многообразие было спаяно особым типом мышления, выработанным еще в 20-е гг. под влиянием философии Шеллинга в маленьком кружке, члены которого называли себя «Обществом любомудрия».
Именно в романтических витийствованиях любомудров, дерзавших соединить мысль и поэзию и создать «новую поэтическую философию», находим мы наброски тех идей, что десятилетиями позже лягут краеугольным камнем учения Н.Ф. Федорова и его последователей, а также ноосферной концепции В.И. Вернадского.
Прежде всего это идеал живого, «цельного знания», Оно синтезирует все силы и способности человека: научные, художественные, религиозные, собирает и сам объект исследования – человека и природу, – растащенный по многочисленным рубрикам специальных наук. Задача «новой науки» воспринимается Одоевским так, как затем она будет сформулирована Н.Ф. Федоровым: полнота «знания и управления» силами природы. В такой науке, по мысли Одоевского, словно оживает начальное, магическое отношение человека к миру, в котором сильна была роль интуиции, сокровенного, внутреннего ведения. Только теперь эта глубина древнего целостного восчувствия мира сочетается со всей полнотой и детальностью знания, добытого человечеством в течение столетий.
В качестве некоего эталона познания выступает у Одоевского акт самопознания. Процесс познания здесь истекает как бы изнутри человека, поднимается из глубин души. В нем неразрывны разум и чувство. Познающий является в одно и то же время и субъектом и объектом познания: таким образом преодолевается «овнешненность» предмета познания, привычная его далекость и чуждость нам. Самопознание «есть знание внутреннее, инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души порожденное», «таковы должны быть и все знания человека»43. «Великое дело, – утверждает мыслитель, – понять свой инстинкт и чувствовать свой разум. В этом, может быть, вся задача человечества» (177). «Новая наука» как раз и должна осуществить синтез инстинкта и разума, двух главных способностей человека – природной и сверхприродной. В ней все инстинктивное обращается «в знание ума», а «знание ума» становится внутренним, интимным, приобретает силу воздействовать на ход вещей. Интересно, что подобный же взгляд затем будет развит в книге французского философа Анри Бергсона «Творческая эволюция», многие идеи которой лежат в русле активно-эволюционной мысли.
Прообраз такого внутреннего, сердечного знания Одоевский находит в поэзии. Здесь властвуют «ум небесный» и «поэтический инстинкт». Искусство возвышает инстинкт и ум вводит в сердце. В творческом акте поэт может всякую тварь Божию изнутри понять, почувствовать и с ней породниться. Ему явлена самая сердцевина, сокровенность вещей и явлений, «душа мира», он дышит с природой «одной жизнью». И в этой душевной сопричтенности всему мирозданию поэт «не только властвует над природою, но и творит ее по своему образу и подобию» (194).
Именно исходя из столь гигантских творческих возможностей «поэтического инстинкта», хотя бы камерно, в камне, в слове или на полотне реализующего человеческую власть над стихиями бытия, и провозглашает Одоевский тезис о необходимости синтеза философии, дщери сухого, расчленяющего разума, и поэзии, где бьется живое, трепетное начало инстинкта, в качестве основы цельного, претворяющего мир знания. И оригинальность мыслителя в том, что эта идея «цельного знания» направлена не против дифференциации наук вообще, а против овнешненного знания, против рациональности современной науки, что схватывает и исчисляет лишь первую оболочку мира, не проникая вглубь, не затрагивая его сущности. На деле такая наука обращается в незнание («Мы все изучили, все описали и – почти ничего не знаем». С. 166), а потому бессильна перед лицом природных катастроф. Не раз встретим мы на страницах романа «Русские ночи» (1844), первого русского философского романа, картины того, как гибнет под натиском стихии весь созданный человеком мир вещей, зданий, мануфактурных изделий там, где мощь природы, казалось бы, смирилась, скованная железной рукой промышленности. Робкому человеческому уму остается лишь сетовать, взирая на тотальный крах того, что устроялось и возделывалось веками: «Страшно! Страшно! Где же всемощные средства науки, смеющейся над усилиями природы?»
Причем, по мысли Одоевского, все эти естественные бедствия – «бури, тлетворные ветры, мор, голод» и т.д.- падают на человечество как своего рода «бичи Божий». Природа словно мстит человеку за его легкомыслие, за ложный выбор путей и жизненных ориентиров, за неверную, неправедную жизнь, за забвение какого-то главного своего долга. Обрушивается под глухими подземными ударами осударство бентамитов, жители которого поклонились корысти и душу свою сожгли на алтаре частной и общественной пользы («Город без имени»). И в мгновение ока потоки воды, как судные волны потопа, сметают ленную роскошь свадебного пира, мишурный блеск светской жизни («Насмешка мертвеца»). Постепенно в романе «Русские ночи», а также в целом ряде заметок, набросков, философских фрагментов, зачастую таким вот методом «от противного», начинает вырисовываться представление о человечестве как активной, творческой силе универсума, пробивается мысль о связи с человеком всей природной, а шире – космической судьбы. Огромный, ветшающий мир, одолеваемый неумолимым временем, припадает к человеку, взывает к мощи, к разуму его, молит остановить, уберечь, спасти.
Мысль о человеке-творце, человеке – хозяине мира художественно реализуется Одоевским в романе-утопии «4338 год». Роман построен в форме писем путешествующего по России китайского студента Ипполита Цунгиева к своему другу Лингину. Перед нами – полностью преобразованная и окультуренная планета. Люди добились неслыханных успехов в области регуляции атмосферы и климата. Побеждена вечная мерзлота: система теплохранилищ, протянутая по всему северному полушарию, гонит теплый воздух с юга на север. Даже вулканы на Камчатке употреблены «как постоянные горны для нагревания» полуострова. Открыт химический синтез пищи, что позволило отказаться от пожирания чужой жизни. Люди летают по воздуху на аэростатах и гальваностатах – воздушных шарах. Более того, спасаясь от перенаселения, они вышли в космос и освоили Луну. Все это стало возможным в результате согласного действия всех ученых, на путях слияния множественности наук в единую науку о человеке и Вселенной. Задача этой науки – достижение счастья всего человечества, разумное и творческое управление силами природы, обращение их на благо человеку.
Подступают понемногу и к регуляции собственного организма, пока только душевно-психической. С помощью гипнотических сеансов достигают предельной искренности, открытости друг другу, в результате чего в обществе почти полностью исчезает лицемерие, притворство. Как не вспомнить тут заветную грезу Федорова о том моменте, когда человечество не только сможет регулировать внешнюю природу, но и подчинит себе «вся внутренняя своя», обретет «взаимную прозрачность», когда ничья душа «уже не будет потемками». Предвосхитил Одоевский и мысль Федорова «обратить орудия истребления в орудия спасения», преобразовать армию в «естество-испытательную силу», а военную технику направить на метеорическую регуляцию. Войско в его романе используется единственно для экспедиций на Луну, как подчеркивает писатель, особо опасных. А комету, грозящую разрушить Землю, ученые предполагают остановить с помощью военных снарядов.
Однако утопия Одоевского созвучна русскому космизму не только картиной успехов, столь головокружительных (по крайней мере, для его времени) в освоении Земли и прилегающего к ней космического пространства. Ведь подобные мотивы вовсе не были новшеством в утопической литературе даже на заре индустриальной эры. А уж современная научная фантастика оставила далеко позади и самые дерзновенные представления утопистов прошлых веков. Но в подтексте романа «4338 год» лейтмотивом вплетается вопрос о конечных целях, принципах и границах регуляции, об основной ее направленности, как нравственной, так и естественнонаучной.
Мы уже упоминали о том, что пафос русского космизма заключается в абсолютной полноте знания и управления, когда вовсе не останется ни вне, ни внутри человека мрака и хаоса, когда во Вселенной, проникнутой сердечной мыслью и высочайшим нравственным чувством, воцарится новый, благой тип бытия, когда «Бог будет всяческая во всем». Природа здесь вовсе не воспринимается как орудие, годное лишь на то, чтобы почтительно ублажать новоиспеченный «венец творенья», набравшийся на беду ей порядочной силы и наглости. Она не служанка, но сестра человеку. Она – такой же субъект, такое же уникальное «я», как и человек, только множественное, совокупное; вобрал он в себя мириады живых и неживых существ, и все они имеют равное право на бытие. Роль человека в ней не эксплуатировать, а освободить ее от «рабства тлению», закона энтропии, умирания, распада.
Кстати, такое личностное, интимное отношение к природе как к трепещущему жизнью, чувствующему существу было свойственно именно любомудрам, этим «русским шеллингианцам», кумир которых, по выражению философа П. Новгородцева, как раз и хотел «в природе открыть душу живую».
Но такова ли связь человека с природой в романе Одоевского? Пусть и в значительно облагороженном виде, но перед нами та же орудийная, техническая, по слову Федорова, «эксплуатирующая, но не восстанавливающая» цивилизация, весь ужас которой стал явен уже нашему веку и предельно обострен в безжалостном и безнадежном мире современных антиутопий.
Да, не апологетичен «4338 год»! Уж больно наивное, неприлично провинциальное в нем восхищение чудесами техники. Недаром в качестве рассказчика избирается китаец, эдакий простодушный, недалекий малый, волею судеб занесенный в самое, можно сказать, пекло цивилизации, – это излюбленный прием философского романа, нередко, кстати, используемый для критики описываемого уклада жизни. Легкий, почти неуловимый налет иронии – и вот уже двоится наше восприятие «будущей гармонии», проглядывает некая ее ущербность, неполнота, несоответствие великих достижений и мелких целей. Человечество в утопии Одоевского усердно топит печку ассигнациями. Ведь даже новый уровень взаимной открытости, достигнутый с помощью душевно-психической регуляции, не служит установлению истинного лада, той организации общества, что Н.Ф. Федоровым была названа «психократией», а лишь питает светское любопытство, разжигает сплетни. А хваленая власть над силами природы? Планете, столь умно и заботливо возделанной руками человеческими, не далее как через год грозит гибель от космической катастрофы. В сущности, жизнь человечества в романе проходит под знаком конца. Ведь объективно смертность не устранена. И вот гложет сердце страх гибели земного шара, а значит и своей. Этот страх трансформируется, но не исчезает, всплывая в момент гипнотического сеанса, когда сняты заслонки жизни души и вихри подсознания наконец вырываются на ее поверхность. «Признаюсь, – сказал один, – хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». Механизмы защиты от этого страха разнообразны: уповают на силы и средства науки или утешаются тем, «что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться». А то, задрапировавшись в спасительный «юморной» покров, украсив волосы электрической кистью в виде хвоста пресловутой кометы, такой вот насмешливой и дерзкой эстетизацией грядущего зла пытаются погасить тлеющие угли страха, хоть так, но возвыситься над ним.
Ну а вслед за этим очагом дисгармонии начинают вырисовываться и прочие несовершенства. Физическая оболочка человека, ничуть не изменившаяся за протекшие две с половиной тысячи лет, тормозит развитие духа и ума, сдерживает их мощь – вот они, коварные цветочки однобокого технического прогресса! А тут еще со свойственной поэтике любомудров воздушной ироничностью пронизывает роман мысль о зыбкости и относительности человеческих знаний, особенно о прошлом. Поставив себе задачу овладеть пространством, люди мало думают о власти над временем. Улучшение средств хранения информации не исчерпывает эту задачу. Ведь и стеклянные рукописи, не подвластные тлению, неизбежно погибнут, растопленные кометой. Как не вспомнить тут слова Н.Ф. Федорова о неотделимости победы над пространством от победы над временем! Иначе природа, брошенная развиваться сама по себе, считает Одоевский, «вдруг явится человеку с новыми, неожиданными им силами, пересилит его и погребет его под развалинами его старого, обветшалого здания!» (с. 206).
Главы из романа «4338 год» были опубликованы в 1840-м, а в 1844-м Одоевский в романе «Русские ночи» помещает главку «Последнее самоубийство». В ней предстает как бы оборотная сторона того «господства над природой», что столь восторженно и пламенно описано в длинных посланиях китайского студента. Природная среда уже не может справиться с растущими аппетитами человеческого рода, к тому же чрезвычайно размножившегося. И вот искусственная деятельность человека оборачивается против него самого. Сливаются границы городов, истощаются ресурсы, вычерпаны каналы и реки, не хватает пропитания, эпидемии косят людей. На породе вымирания стремительно деградирует общество, рушатся все нравственные законы. Уделом отчаявшегося человечества становится лишь коллективное самоубийство: «треск распадающегося земного шара» венчает пути технического прогресса. В утопии «4338 год» в сущности тот же мотив: комета, грозящая всему живому на Земле и самой планете, словно воплощает собой природу, «опередившую» в своей силе человека и вершащую некий суд и апокалипсис роду людскому, не дерзающему на главную свою задачу.
Поиск путей преодоления несовершенного идеала развития тоже сближает Одоевского с главной интуицией активно-эволюционной мысли. В трактате «Русские ночи, или О необходимости новой науки и нового искусства» писатель высказывается за синтез «науки, искусства и религиозного чувства». Преобразующая и творческая деятельность человечества должна быть направлена в соответствии с религиозным идеалом, ее должна питать мечта о счастье каждой конкретной личности, а не рода вообще. И в таком смещении акцента с рода на личность, в одушевлении всей деятельности «чувством религиозной любви» (а ведь эта любовь в своем высшем пределе направляется на весь космос, на все творение Божие и не смиряется со страданием и гибелью «ни единого из малых сил») зарождается установка на великое нравственное и творческое призвание человека в мире. Содержание же этого призвания раскроется затем в совокупной мыслительной работе целой плеяды космистов – философов, ученых, в истинной же полноте и стройности предстанет в федоровском «учении общего дела».
|
Предисловие Петербургские письма |
Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком, весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявить своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами*2, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собой по произволу приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.
Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий, его природная способность, изощренная долгим упражнением, позволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам, по крайней мере, с любопытством прочитывает все написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, т.е. 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие о ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продлившееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел перед собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем ХLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался со своим другом, оставшимся в Пекине.
Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно казалось в них слишком обыкновенным, другое – невозможным; он отвечал: «Не спорю, – может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути по законам, до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира; останутся те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должны значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристичная черта новых поколений – заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо больше нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжение нескольких столетий; скажите, что бы мы знали о временах Нехао*3, даже Дария*4, Псамметиха*5, Солона*6, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении; не только через 2500 лет, но едва ли через 1000 останется что-либо от нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это и тогда уверитесь, что через 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р.Х., то есть за 2500 лет до нас. <...>
Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в привлечении к нижеследующим письмам.
От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы. Константинополь,
27 декабря 4337 года |
Пишу к тебе несколько слов, любезный друг, с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучной; мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием. Ты, верно, слышал об огромном аэролите, недавно пролетевшем через южное полушарие, этот аэролит упал недалеко от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и со смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа; в это время на море была буря, седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту кажется был готов на нас рухнуть. Действительно, если бы аэролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался, и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость. Но однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули мимо нас.Теперь – теперь слушай и ужасайся! Я сажусь в русский гальваностат! – увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещания деда Орлия, и собственную опасность, и все наши понятия об этом предмете.
Воля твоя, летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху. В состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом, несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое. Если бы ты видел, с какой усмешкою русские выслушивали мои вопросы о предосторожностях... Они меня совсем не понимали! Они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор, весьма тонкие, многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни, при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора в крови, – может быть, тут многое значит привычка.
Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии. Вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые галь-ваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды – тревога была написана на всех лицах.
Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы на Землю, или, если хочешь, соединение ее с Землею, кажется делом решенным; приблизительно назначают время падения нынешним годом – но ни точного времени, ни места падения по разным соображениям определить нельзя.
Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения. Пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крыше которого огромными хрустальными буквами изображено: «Гостиница для прилетающих». Здесь такое уж обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид. Сверх того, сие обыкновение очень полезно – не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю.
Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию: что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой – собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди. Я почти ничего не смог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил. Я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержатся в отличном порядке. Да, чуть не забыл, мы залетели к экватору, но лишь на короткое время – посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию. Истинно, дело, достойное удивления, труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами, а с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства. Из городских хранилищ теплый воздух проведет частию в дома и в крытые сады, а частию устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улиц. Но теперь не до того, все заняты одним – кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негоциаций именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединявшихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю. Нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится, но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я расскажу тебе про все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний, сколько глубокомыслия! Удивительная ученость и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу. По одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить народное самолюбие. <...>
Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой Горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аэростатов; иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности.
Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями, в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы, – это никому не покажется странным; записные ж фешионабли*7 решительно молчат по целым вечерам – это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большой неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины, так что кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.
Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластичного хрусталя разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться. Но большая часть толковала о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборки à la comète*8; они стояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок. <...>
Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны – обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции, и все другие берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.
Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь, – сказал один, – хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа, – сказала одна хорошенькая дама, – потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия». «Ваше радужное платье, – сказала щеголиха своей соседке, – так хорошо, что я намерена выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».
Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» «И я также, и я также», – вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.
Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно очевидно невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме; в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности. <...>
Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю, – сказал он, – позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».
Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большею частию они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей. <...>
В начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат быстро спустился к платформе высокой башни, находящейся над Гостиницей для прилетающих. Почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.
– Что у вас приготовлено к столу? – спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.
– С кем имею честь говорить? – спросил учтиво трактирщик.
– Ординарный историк при дворе американского поэта Орлия.
Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы и проч., и проч. Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.
– Что это значит? – спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для историков». – Да! Я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом, признаюсь, однако же, что это постановление у вас довольно странно.
– Судьба нашего отечества, – возразил улыбаясь трактирщик, – состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, что многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.
Американец насмешливо улыбнулся:
– О, страна поэтов! У вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте. Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?
– Вы можете получить его, но только за деньги...
– Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте...
– Вы получаете даром. От вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим знанием, а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе.
– Это не совсем дурно, – заметил расчетливый американец. – Мне подлинно неизвестно было это распоряжение. Вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше Новой Голландии.
– А откуда вы сели, смею спросить?
– С Магелланского пролива. Но поговорим об обеде... Дайте мне хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции, порцию сгущенного азота à la fluer d’orange*9, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну, я очень устал с дороги...
- До какой степени, до сомнамбулизма или менее?
– Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил.
– Сейчас будет готова.
Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластичного стекла. Под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ – в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.
Путешественник кушал за двоих и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.
– Превкусный азот, – сказал он трактирщику. – Мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре. <...>
<...> История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся.
Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения; вторую – для того, чтобы не принять умершее за живое.
Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве – и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные в пространстве; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик, – колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получат торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т.п. – словом, все общественное устройство?
Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самим своим происхождением, ибо, во-первых, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний и, во-вторых, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома. <...>
Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне. <...>
В Петербургских письмах (через 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с той целью, мысль о которой выработалась умственною деятельностью. Этою невозможностью достижения умственной цели, этой несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все человечество безнадежное уныние – человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнью.
Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде: юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.
Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства превращать климаты или, по крайней мере, улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в хладной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены как постоянные горны для нагревания сей страны.
Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу – для отвращения ветров придуманы вентиляторы. <...>
Усовершенствование френологии*10 производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя внутренняя в форме своей головы, et les hommes le savent naturellement*11.
Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же, как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов. <...>
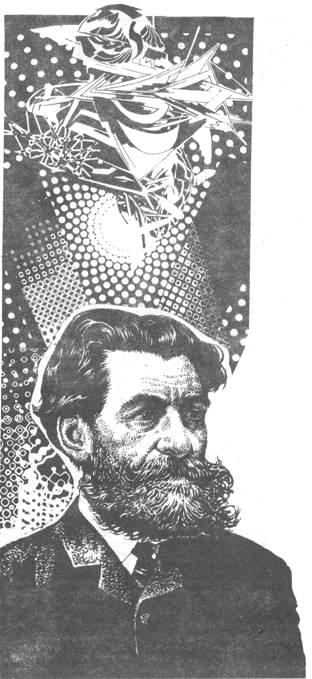 В. Сухово-Кобылин – колоритнейшая, своеобычная и несколько загадочная фигура русской культуры второй половины прошлого века. Среди отечественных литераторов он отличился редким долголетием: восемьдесят шесть лет чрезвычайно активной и разноплановой жизни, наполненной увлеченными умственными занятиями и светским рассеянием, любовными победами и трагедиями (не миновала его и тюрьма, правда кратковременная, и изнуряющее, неправое, семилетнее следствие по обвинению в убийстве своей любовницы), упорной творческой работой и длительной борьбой за выход на русскую сцену, бурным предпринимательством и размеренным существованием деревенского любомудра. Как классик драматургии, автор сатирической «Трилогии» Сухово-Кобылин широко известен, тщательно изучен.
В. Сухово-Кобылин – колоритнейшая, своеобычная и несколько загадочная фигура русской культуры второй половины прошлого века. Среди отечественных литераторов он отличился редким долголетием: восемьдесят шесть лет чрезвычайно активной и разноплановой жизни, наполненной увлеченными умственными занятиями и светским рассеянием, любовными победами и трагедиями (не миновала его и тюрьма, правда кратковременная, и изнуряющее, неправое, семилетнее следствие по обвинению в убийстве своей любовницы), упорной творческой работой и длительной борьбой за выход на русскую сцену, бурным предпринимательством и размеренным существованием деревенского любомудра. Как классик драматургии, автор сатирической «Трилогии» Сухово-Кобылин широко известен, тщательно изучен.
Но оказывается, главным делом своей жизни он считал философию, почти 40 лет переводил Гегеля, разрабатывал систему, которую называл неогегелизмом, учением Всемира. К сожалению, плоды этой грандиозной мыслительной попытки так и не дошли ни до современников ее автора, ни до нас с вами. «Непостижимым определением рока», как выразился сам Александр Васильевич, в огне пожара, обрушившегося на родовое имение в селе Кобылинка 19 декабря 1899 г., погибли все переводы и половина его оригинального труда. Другая половина была еще до несчастья вывезена во Францию и в настоящее время хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Знакомство с этим фондом убеждает, что последовательного и законченного изложения философии Всемира не было создано. За четверть века самостоятельных поисков у Сухово-Кобылина набрался ворох отдельных разработок, «приступов», фрагментов, набросков, вариантов, которые он все собирался объединить в стройное целое, до поры до времени отдавая основные силы «подстрочному, тщательно верному» переводу основных произведений Гегеля, переводу, обраставшему бесконечными примечаниями и толкованиями.
В Сухово-Кобылине кипели страсти и противоречия: личные, общественные и философские. Убежденный крепостник, гордый аристократ и ядовитейший обличитель самых глубоких, каких-то неизбывных язв России: бюрократии и чиновничества; темпераментный хозяйственник, весь в проектах и хлопотах, и сельский отшельник, погруженный во все извивы и темноты гегелевской мысли; мечтатель о прекрасном звездном будущем бессмертного, духовного человечества и социал-дарвинист, переносящий на общество идеи борьбы за существование и селекции. Впрочем, упрек в противоречивости, даже кричащей, сам Александр Васильевич воспринял бы, пожалуй, как похвалу, удостоверив тем самым и в себе самом живое диалектическое единство любезных ему «экстремов» (крайностей). Ведь именно идея противоречия, раздвоения на противоположности, «эналакса» (перехода) этих противоположностей, через который и происходит «поступание» мира, была для него основоположной. За нее он так высоко почитал Гераклита и Гегеля, возведя их в своих философских кумиров. Я не буду пересказывать те положения гегелевской философии, которые целиком принимает и развивает ее русский последователь. Важнее понять, в чем была «идея» самого Сухово-Кобылина, в чем состояла новая ступень гегелизма, которую он предлагал в виде своего учения о Всемире.
При всей безграничной преданности Сухово-Кобылина немецкому гению он упрекает его в том, что тот не понял по-настоящему задачи человечества. Толчком к ее осознанию для самого Александра Васильевича стала эволюционная теория Дарвина, конкретно его книга «Происхождение человека и половой подбор» (1871). В этой теории он уловил подспудную, прямо самим Дарвином не выраженную тенденцию восходящего характера эволюции, которую и развил в своей теории трехмоментного развития человечества: земного (теллурического), солярного (солнечного) и звездного (сидерического). Вторая стадия предполагает расширение ныне прикованных к своей планете землян на все околосолнечное пространство, а третья – овладение всем звездным миром, всей Вселенной. Только колоссальный эволюционный рывок может обеспечить небесные, звездные горизонты ныне столь еще несовершенным смертным. Философ видит возможность такого невероятного прогресса человечества на путях все большего его одухотворения, достижения способности летания, преодолевающей пространственные ограничения. Активная эволюция у Сухово-Кобылина, предполагающая всеобъемлющую космическую экспансию человечества, включает и его «бесконечную инволюцию... в себя самого, поступание в глубь» самосознания, вплоть до такого «соключения с самим собой», такого одухотворения, что этот будущий организм становится как бы беспространственным, сверхчувственным («до исчезания плоти»), «эфирным». Тем, кто знаком с видением будущего «лучевого» человечества в «теории космических эр» К.Э. Циолковского, нетрудно увидеть тут почти буквальное совпадение с интуицией Сухово-Кобылина.
Кстати, в самом образе жизни и поведения Сухово-Кобылина после того, как он, отринув столичную суету, поселился в деревне и прожил здесь – с небольшими лишь выездами в Петербург да за границу – непрерывно до самой смерти, чувствовалось его следование духу своей мысли. Пусть «летание» и бессмертие, о которых он мечтал, пока были ему еще недоступны, но максимально продлить свою жизнь, создать здоровый, легкий, одухотворенный организм он стремился неустанно. Среди его рукописей есть «Похвала вегетаризму», настоящий панегирик существованию на лоне природы, которое разумно сочетает интенсивный физический и умственный труд, включает в себя «воздушную гимнастику» и вегетарианскую пищу. Он красочно описывает, как принятый им режим дает ему «приподнятость и крепость», «высшую интенсивность», сладость ощущения жизни. И не только описывает, а осмысляет такой образ бытия, так сказать, натурфилософски: «Вегетаризм и есть та реформа нутра, которая уменьшает объем желудка, увеличивает объем легких, учиняет человека легким, наполняет бодрящим духовным ощущением легости, одухотворяет его». В бумагах писателя находим и апологию продолжительной, здоровой старости как «эпохи мудрости», когда человек, освобожденный от всех чувственных прельщений, может предаться «свободной деятельности мышления». Он считал, что продление человеческой жизни, «увеличение старческих годов» укрепит в обществе «элемент разумности».
В рассуждениях Сухово-Кобылина встречаются и жесткие интонации. Так, восхождение и одухотворение человечества в целом он мыслит путем беспощадного отбора, «потребления» слабых и неприспособленных форм. Философ хладнокровно обрекает на огонь «селекции» все промежуточные формы, ведущие род людской к блистательному звездному финалу. В этом проявился гипноз «объективности» и неотменимости законов животно-природной эволюции, под который попадали многие, особенно по первому ошеломляющему впечатлению от теории Дарвина. Этот гипноз заставлял забыть принципиальное отличие человека от остального животного мира – как существа не только сознательного, но и чувствующего, и нравственного.
Читатель, знакомый с гибким, колоритным языком пьес Сухово-Кобылина, может озадачиться каким-то нарочито архаичным, тяжеловесным, лексически довольно однообразным слогом его философских фрагментов. В свое время Герцен, дав классическое определение философии Гегеля как «алгебры революции», отмечал: «Но она, может быть, с намерением, дурно формулирована». Благоговеющий перед громадой Гегеля, его русский ученик пытался следовать и формализованному, «немецко»-философскому языковому складу, точнее, дать нечто вроде его русской кальки. Но, как ни проникался Сухово-Кобылин знаменитой системой объективного идеализма, его собственный философский акцент, оригинальная мыслительная краска, относясь к области высшей цели – «последних сроков», обличают в нем тип русского мыслителя. Ведь именно эта эсхатологическая обращенность русской мысли (в смысле чаяния радикального преобразования человека и мира) неоднократно отмечалась как одна из своеобразных черт национальнофилософской традиции. Истинное свое место автор «учения Всемира» находит в плеяде русских космистов, с разной степенью глубины, объемности и научности развивавших идеи космического будущего человечества, активной эволюции и, наконец, в нашем веке – ноосферы.
Два экстрема социологии как философии общества суть: человеческое стадо, как починная и низшая ступень человеческого общества, и концепция преподобного Августина*13, т.е. Civitas Dei – Божия община, как другая высочайшая ступень. Эти две крайности суть почин и конец всемирного человеческого процесса; почин как дикое состояние человечества, или человеческое стадо, а конец как божественная община, т.е. как абсолютный момент, ближение этого поступания, или ряда, к абсолютному Духу. Спекулятивная социология указывает нам это поступание в полноте и установляет три момента истории человечества по форме занимаемого им пространства. Три эти момента следующие:
а) Первый момент – есть теллурическое или земное человечество, заключенное в тесных границах нами обитаемого земного шара.
б) Второй момент – солярное человечество, т.е. то, которое является как всекупота обитателей нашей Солнечной системы.
в) Третий момент – сидерическое, или всемирное, человечество, т.е. вся тотальность миров, человечеством обитаемых во всей бесконечности Вселенной.
Изложение процессования этого всемирного человечества и составляет науку спекулятивной философии.
Надо иметь в виду, что в этом всемирно-историческом процессе абсолютно-свободная человеческая личность является третьим и высшим моментом, т.е. сидерическим человечеством, которое и есть цель и сключение*14 всего движения, и что с орды или «толпы диких», с человеческого стада начинается этот социологический ряд, т.е. поступание человеческого общества, поступание, которое и есть процесс одухотворения человечества, и что лишь в бесконечности одухотворение это заканчивается главенством божественного разума, т.е. Царствием Божиим, Civitas Dei.
Поступание человечества, т.е. процессование человечества к Богу, выражается трехмоментным поступанием человечества или его трехмоментным рядом. Моменты этого нормального ряда суть:
а) Непосредственный, чувственный человек или дикий человек, человек-зверь, антропофаг, пожиратель самого себя, человек-дьявол, дьявольский человек.
б) Обыденный, конечный, эмпирический, антиспекулятивный, рассудочный человек, тот человек, которого мы имеем в эмпирическом знании, ибо надо заметить, что эмпирическое или рассудочное знание стоит в противуположении с логическим, или разумозри-тельным, знанием, а потому эмпирик есть существенно атеист, а разумозрительный человек есть существенно философ-деист. Эмпирик есть суевер, а философ есть богослов, это и дает нам
в) третий момент человечества: воплощенный абсолютный дух.
Гегелева апофтегма*15 достигает своей истинной формы и принимает такой вид: логическое эвольвирует*16 в природу, а природа инвольвирует*17, исходит в теллурического человека, а человек исходит в абсолют, или сидерическое человечество.
Трактуя логическую будущность человечества в бесконечных периодах времени, мы можем будущность эту понимать только в ее логической или теоретической форме; причем органическую форму принуждены игнорировать и лишь в отдаленном будущем предполагать себя – свое потомство – способным ее усмотреть.
Сила или мощь, энергия организма выражается в быстроте самодвижения (автокинии). Самодвижение есть негация*18 протяженности, пространства, т.е. летание. Слабость организма или его бессилие перед пространством есть нелетание. Починные, нижайшие организмы – обитатели воды; оный праорганизм лежит недвижно в глубине океана. Пресмыкающиеся, т.е. низшие организмы суши, ползают на брюхе, без ног и крыльев, по дну воздушного океана, по суше. Ангелы, т.е. идеальные божественные люди, имеют своим отличием от остальной низшей массы людей символ свободы – крылья. Эти крылатые люди и суть высшие, совершеннейшие люди, а высочайший всемирный человек есть уже бесконечная абсолютная легость, или абсолютная свобода передвижения, т.е. абсолютная победа над пространством или протяженностью – нуль пространства, точка, точечность, дух.
Вся теория человечества и бесконечность его развития, т.е. философия истории человечества, есть процесс его освобождения от уз пространства, т.е., другими словами, его исхождение в дух; результат одухотворения (субъективации) – идеальность, точечность. История этого одухотворения есть история самодвижения, автокинии человечества. Создание высочайшей «спекулятивной» механикой вагонного движения (локомотива) значительнее создания велосипеда, летящей машины.
Все эти современные изобретения суть не иное что, как шаги, совершаемые человечеством по пути его субъективизации, одухотворения. Горизонтально летящий на велосипеде человек – это уже движущийся к форме ангельской, высший человек. Через изобретение этих машин горизонтального летания человек подвигнулся к лику ангельскому или к идеальному человечеству. Всякому мыслящему существу понятно, что велосипед – это и суть те механические крылья, почин или зерно будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы теллурического мира и изойдет своими механическими изобретениями в окружающий его солярный мир.
Отсутствие у теллурического человека крыльев есть мера его униженности пред пространством. Тогда как рядом с ним живущий в природе организм – птица – по своей формальной стороне есть уже ангел, или обратно, ангел есть по своей форме птица, а, по вещим словам поэта, птица и есть тот летающий организм, который по своей легости достичь материальной свободы от пространства освободился, поет и своим жизнерадостным и вдохновенным пением всесильного Бога славит и потому есть не только вольная птица, а есть в своей воле и радовании поющая Бога – божия птица. («Птица божия не знает ни заботы, ни труда»*19.) Птица есть поэт, славящий Бога. Положение спекулятивной философии, что человек должен в своем обвнутрении преодолеть пространство и потому в своем будущем имеет пройти сквозь момент летания, т.е. тотально одолеть пространство, есть самая суть спекулятивной философии, которая на то и явилась, чтобы усмотреть эту свободную божественную форму в будущности человечества и возвестить ее в виде одного тезиса науки всему мыслящему человечеству.
Таковое понимание спекулятивной философии, как философии будущего, ведет нас к усмотрению, что ряд, образуемый процессующим человечеством, содержится между двумя противоположными экстремами, а именно между починным, чувственным, примордиальным*20 человеком, только что исшедшим из формы бессознательного организма, т.е. скота, скотского, только чувственного человека, или дьявола, и самостоятельным, богозрящим человеком – ангелом. Говоря языком чистой науки – логики: процессование человечества из формы дьявола в форму ангела есть частный случай универсального процесса исхождения материи в дух, открытого в невтоновом биноме.
Для современного теллурического человека царство воды доступно (плавание в воде), а царство воздуха – летание или плавание в воздухе – недоступно и будет доступно тогда лишь, когда высший, т.е. солярный, человек просветит свое тело до удельного веса воздуха, как это исполнено птицею, и еще более теми насекомыми, которые летают и для этого выработали свое тело в трубчатое тело, т.е. воздушное, более того, в эфирное, наилегчайшее тело.
Таковое понимание спекулятивной философии дает нам право восстановить одно из основоположений спекулятивной философии как философии будущего человечества, а именно что ряд, образующий оное поступание человечества, есть его одухотворение.
Нет сомнения, что в вопросе о летании положение нам современного человечества сеть вполне приниженное и для достоинства человека оскорбите льное.
Летание организма есть бессомненно его ополнствованная*21 личная, теллурическая свобода, т.е. свобода передвижений по всем трем протяжениям пространства, свобода перемещения в вышину, ширину и глубину. Этим громадным преимуществом, т.е. полною свободою движения и, следовательно, полною победою над пространством, пользуются весьма многие роды животных из четвероногих – летучие мыши, весь громадный класс птиц, некоторые рыбы и весь класс крылатых насекомых.
Замечательно, что только древние роды этими преимуществами пользуются, т.е. насекомые, которые в своем общественном быту достигли высокой степени совершенства, еще нам малоизвестного.
Позднейшие и совершеннейшие создания, как-то: четвероногие и человеческий род, не достигли требуемого развития легких, т.е. не стали довольно легкими, чтобы летать.
Отсюда следует заключить относительно ныне наличествующего нашего земного, или теллурического, человечества, что оно в настоящем, втором, т.е. рассудочном, моменте слишком еще телесно, чувственно, слишком тяжело, чтобы летать, а потому очевидно, что увеличение легких увеличит и лекость, т.е. уменьшит удельный вес человека. (Вопрос летания есть и увеличение емкости легких.) Не только легкие птицы несравненно больше, протяженнее легких млекопитающих, но кости птицы и их перья – полы, и, будучи наполнены нагретым в органах птицы воздухом до 36 и 37 градусов Реамюра, учиняют тело птицы весьма легким.
Легкие человека могли бы легко свой объем удвоить, наполнить всю грудь и большую половину брюха, тем самым увеличить лекость человека и, следовательно, учинить его способным при малом усилий держаться на воздухе. К этому, надо надеяться, присоединится техника. Нет сомнения, что еще недавнее техническое изобретение велосипеда есть уже достигнутое горизонтальное летание. Необычный, беспримерный успех, который в один год покрыл всю землю велосипедистами с их здоровым, веселым видом. Уже в настоящую минуту достигнутая скорость до 50 км/ч превзошла скорость скаковых лошадей и при дальнейшей тренировке обещает, по крайней мере, удвоиться и, конечно, достигнет быстроты летания птицы. За сим позволительно рассчитывать и на крылья, которые поперву могут быть некоими воздушными велосипедами и, наконец, могут вырасти у человека точно так, как они выросли у птицы.
Издавна человек был усмотрен как единство двух противоположных: материи и духа – и, следовательно, как высочайшая конкретность и потому как бесконечный триединый, т.е. трехмоментный, ряд. Это понимание человечества, как протекающего три момента в развитии, и есть спекулятивное, т.е. разумозрительное, понимание человечества как высочайшего конкретного в трех моментах своего разумного, т.е. нормального, развития:
а) Единство человечества как починной теоретической формы, т.е. как безразличенной, как нуля различенности, как непосредственного бытия, и только.
б) Второй момент есть уже негация (отрицание) безразличенности и потому различенность, наличествующее различение, т.е. развитие, рост, разделение человечества на пространственную многость планетных, т.е. теллурических, и солярных человечеств, закрепленных каждое к своему космическому телу узами пространства, к которому принадлежит и наше теллурическое человечество, за которым следует:
в) третий момент – свободное, освободившееся от кандалов пространства, жизнерадостное, летающее человечество, одухотворившееся до пределов невесомой материи, т.е. эфира, с самим собой соключенное, свободное до исчезания плоти, одухотворенное, как сам эфир, беспространственное, сверхчувственное, невидимое человечество.
Это универсальное единение и единство всемирного человечества и есть его, человечества, безграничная будущность, и само оно есть его цель и, следовательно, есть самоцель, энтелехия*22, с самим собою соключенно-бытие и высочайшее единство. Это высочайшее единство утверждаемо и эмпирическим знанием, а именно: нам современным капитальным открытием Кирхгофа*23 о единстве вселенской материи и многочисленными открытиями в сфере электричества, обнаружившими, что сила эта есть универсальная всемирная сила, т.е. что все силы и природы, и духа суть видоизменения, моменты, т.е. степенования (или потенции) электричества.
Здесь существенно указать, что это и теоретически, и эмпирически утверждаемое тождество различных человечеств Всемира получило подтверждение и в сфере чистой веры, т.е. божественного благовестия, которое это тождество людского рода оповестило миру следующими пророческими словами: «И будет едино стадо и един пастырь»*24. Таким образом, математическое и духовное тождество человечества есть не только положение спекулятивной философии, но купно есть евангельский догмат, который в Евангелии получил характер абсолютной истины, и весь вопрос привелся к тому вопросу: какою именно модальностью поступания единство и единение человечества могут быть достигнуты? Но при соображении вышеуказанных открытий единства материи и сил во Вселенной становится очевидным, что само всемирное человечество ныне расторгнуто на отъемлемые планетные человечества, остающиеся вне всякого общения друг с другом, что препоном этого общения становится только зависимость от чрезмерной протяженности их разделяющего пространства и, следовательно, должно быть достигнуто большею степенью его, человека, подвижности или переместимости, т.е. большей иннервацией его собственного самодвижения, или, что одно и то же, умалением его собственной протяженности и совместно уменьшением его удельного веса и, следовательно, одухотворением всей совокупности его организма, – словом, приобретением ему еще чуждой способности летания.
Вопрос о возможности таковой реформы телесного организма подразумевается наличествованием в природе целой массы летающих организмов: класса рыб, всего класса летающих ящеров или птеродактилей, многочисленных родов птиц и, наконец, целого класса млекопитающих, т.е. летающих мышей. Внося сюда теорию изменения родов, их исхождения друг в друга, мы имеем полное право утверждать, что была эпоха в жизни этих родов, когда ныне летающие породы еще не летали и только лишь в известную эпоху их становления стали летать; и потому с полной достоверностью нам современное человечество рядом разумных упражнений разовьет в себе легкие, и соответственно потребив грудные мускулы, чем облегчит себя до летания. (Будет ли эта возможность доступна частию органическим и частию механическим, т.е. техническим, путем, или механическим поднятием себя в воздух машиною?) Относительно движения за пределы атмосферы можно в настоящий момент утешить ныне столько бедствующее в кандалах пространства человечество соображением, что если рыба смогла выработать свой организм для того, чтобы плавать в воде, птица, чтобы плавать в воздухе, то не видно, почему даровитый полубог, человек, на этих днях покоривший себе теллурические пространства рельсовыми путями, телеграфом и телефоном, не властен будет возвести мало-помалу свою легкость, чтобы, подобно рыбе в воде и птице в воздухе, плавать в эфире, который, как ныне доказывается, точно так же волнообразно волнуется, как вода и воздух.
Относительно достигнутой быстроты перемещения низшими ступенями животного мира, т.е. насекомыми, можно сделать следующие изумительные соображения.
Но если Бог есть Дух, а дух беспространствен, то человек, близящийся к Богу, должен в себе пространственность потреблять, т.е. свое тело ма́лить, и этим малением тела все духовнее и духовнее становиться, т.е. от обуз и кандалов пространства себя освобождать. Это мы видим в животном мире в форме летающих насекомых, которые именно ради своей малости, т.е. ближения к духовности, изумительно подвижны. Муха в секунду пролетает приблизительно сто раз свою длину.
Если бы человек достиг той же физической свободы, которую достигла муха, он мог бы двигаться с быстротой 100 раз его длины, пробегать в секунду почти 200 метров, т.е. перемещаться в пространстве с быстротою пушечного ядра – причем очевидно, что это пространственное состояние летающего насекомого не есть его предельное состояние. Это последствие есть очевидно умаление тела до его невидимости и, следовательно, до бесконечной подвижности и потому исхождение в дух, ибо дух невидим, и в Евангелии совершенно верно сказано: Бог есть Дух, Бога никто же виде нигдеже, т.е. Бог невидим.
Математическая бесконечность есть наружная, сама себе внешняя протяженность – природа, Вселенная. Спекулятивная, или философская, бесконечность есть беспространственная духовная бесконечность, или углубление, инволюция конечного сознания в бесконечность самосознания, или бесконечное процессование человечества как конечного сознания в бесконечный разум или бесконечный дух – в самосознание, т.е. в знание себя бесконечным духом, или бесконечное одухотворение человечества, т.е. потребление в себе своей видимой телесности. Необходимость для конечного разума быть тем, чем он себя знает, и потому бесконечное движение в абсолютную духовность. В этом именно смысл абсолютной властности самосознания. Гегель в своей «Философии истории» говорит о неграх, что они не знают, что они свободны, а если бы знали, что они свободны, то были бы свободны, ибо абсолютное знание и есть бытие.
В этом отношении замечательны слова Канта о бесконечности нашего Я.
Самое поступание конечного человеческого духа в бесконечность божественного духа есть автокиния, т. е бесконечное саморазвитие, которое имеет формулой невтонов бином в его спекулятивной форме и именно в том смысле, что бином этот по своей натуре дает тот универсальный ряд, в котором совершается эналакс*25 конечного духа в бесконечный дух путем постепенного степенования или потенцирования духа и постепенного маления и исчезновения тела и потому бесконечного ближения человечества к Богу, который есть центр Всемира, сам Бог.
Здесь, следовательно, мерилом движения, т.е. процессования, есть маление или сокращение человеческого тела, или пространственной протяженности человека, вследствие его увеличивающейся способности или силы перемещения, как акта отрицания пространства.
Эта протяженность и есть те пространственные кандалы человеческого духа, которые при его рождении суть преграда его подвижности – т.е. поперву в диком состоянии приковывает его к известной обитаемой местности. Дикость, т.е. животненность, грубость человека обнаруживается в отсутствии дорог и потому в медленности перемещения. (Дикость страны и выражается отсутствием дорог и потому трудностью перемещения.) В самом деле девственные леса, поперву покрывавшие всю поверхность материков, были непроходимы, т.е. держали дикое человечество в исключительном рабстве. Природа в истинно крепостном состоянии приковывала их к местности, как это и ныне имеет место в девственных лесах Америки. В первом моменте истории человечества леса эти в некоторых местах стали проходимыми, образовались поляны, на которых и развились первые человеческие общества. Приручение лошади, верблюда, вола были первыми шагами к освобождению от этих пут и, следовательно, к освобождению людей от пут природы. Изобретение колеса, т.е. употребление кругового движения, и постройка колесницы открыли потребность в дорогах, которые и стали сообщениями государств и первою победою человека над пространством. Это побеждение пространства и стало критерием человеческой свободы, которая в современном моменте изменила всю нашу жизнь. Это освобождение человечества и есть вагонное движение, которое перемещает нас покойно сидящих и недвижных с быстротою вихря по всей поверхности материков земного шара и вместе с велосипедом дает нам возможность горизонтально летать. Летание и есть победа над пространством, и эта победа и есть мерило человеческого освобождения.
Ныне изобретенные велосипед и автомобили суть уже почин летания и суть действительное летание по горизонтальному протяжению. Их употребление прямо бьет на дальнейшее развитие в человеческом теле легких и, следовательно, ведет к улетучиванию человечества, т.е. к уменьшению удельного веса человека. Очевидно, как скоро удельный вес человеческого тела станет выравниваться с удельным весом воздуха, летание становится возможным, и самая жизнь, ускоряя свой темп и возводя температуру крови на степень температуры птичьей крови, открывая возможность создать аэростаты, плавание на которых становится при легчании тела безопасным, а вместе с тем возвышается как перемещаемость, так и деятельность самого человеческого организма, которая сравнительно с птицами стоит на такой оскорбительной низости. В этом случае здесь следует заметить, что при наблюдении полетов больших птиц – кондоров, орлов, коршунов – и малых птиц – ласточек, стрижей, корольков, а за сим пчел, оводов, мух, комаров и мошек можно с достоверностью утверждать, что объем тела в летающих животных состоит в обратном отношении к их перемещаемости. Все летающие суть превосходные аэростаты. Тела летающих насекомых представляют массы, насквозь пронизанные пустотами.
Способность летания у некоторых насекомых такова, что они целые часы и дни проводят в летании и, следовательно, непрестанно летая, в отдыхе не нуждаются до той меры, что летая совершают акты совокупления. Если за сим сравним эту подвижность и потому свободу птиц и насекомых с человеком, то очевидно, он остается бо́льшим рабом пространства, сравнительно со всеми классами животных, – и это его отношение к пространству и дает нам мерило дальнейшего его развития.
В настоящую пору обитаемый ныне земным человечеством космический шар есть клетка, в которой это слабое, малосильное и в полной зависимости от пространства состоящее животное живет в тяжком и неодолимом заключении. За исключением этой малой точки теллурический человек лишен способности переместиться в необъятных пространствах Вселенной, хотя бы на самую ближайшую из планет, составляющих наш солнечный мир. Новейшие открытия, совершенные наблюдением солнечных спектров в недавнее время, убедили нас, что материальный состав всех космических тел как нашей Солнечной системы, так и других более удаленных миров состоит из тех же самых элементов, а самые движения этих тел, вычисленные астрономами по законам всемирного тяготения или вообще электрической силы, дали изумительные результаты. Тождество этих небесных сил с нашими земными силами и, наконец, спекулятивное познавание натуры всемирного разума, состоящее в гармонической связи с натурою, нормами и законами нашего человеческого, конечного, теллурического, земного разума, – эти омологии*26 ведут нас к заключению, что мироустройство всех частей Вселенной представляет тождество законов, сил, а потому и тождество явлений или, более того, тождество самих процессов.
Самые последние астрономические наблюдения неба в усиленные рефлекторы дали возможность 10 лет тому назад приступить к составлению фотографической карты видимых в эти рефлекторы миров. Эта карта в нынешнем году, вероятно, будет окончена трудами членов Парижской обсерватории. До сей минуты карты неба ограничивались нанесением 500 звезд, в новую фотографическую карту нанесено около 80 миллионов звезд от первой до пятнадцатой величины. Но конечно, этот труд не только не кончен, но не составляет и малейшей части тех пространств, которые в эту карту не вошли. Один Млечный Путь имеет доставить до тысячи миллионов звезд, к которым надо прибавить до 50 миллиардов астероидов, образующих три тысячи известных небулез, или туманных пятен, и других небесных тел. Наши астрономы подсчитывают, что все количество звезд всех величин достигает приблизительно до тысячи восьмисот миллиардов.
При этом представляется вопрос об обитаемых мирах. Обитаемость эта несомненна, ибо, обращаясь к самому теллурическому человечеству, мы замечаем, что ныне дарвинизмом разрешен вопрос о происхождении человека, человеческого рода. Потому он и разрешен, что этот генезис человечества понят не как случайное, а как необходимое явление, все царство органической жизни понято как эволюционное поступание, как постоянное изменение родов и видов животных, которые законно, т.е. необходимо, а не случайно, друг из друга исходят и потому также законно и необходимо достигают до высших и концевых форм или пород, которые в свою очередь исходят в человечество. Одним словом, если шар или планета, химический состав материи которой тождествен с составом прочих планет и совместно находится под теми же силами, то их (планет) процессы тождественны, их исхождение одинаково. Словом, разум один и материя одна, а потому и продукты их тождественны.
I. В природе, как сфере бессознательности, человеческий самосознательный организм с его мозговым аппаратом, очевидно, есть высочайший из теллурических организмов; и поколику двух высочайших быть не может, а может быть только один высочайший – а если бы их было два, то эти два, будучи равными, были бы одно.
II. Единство материального во Вселенной было недавно доказано Киргофом с помощью анализа спектра световых лучей Солнца и многих звезд. Единство всех сил природы как электрических явлений доказано, доказано единство вселенной силы как электричества. Но если во Вселенной наличествуют эти два единства, т.е. единство материи и единство ее силы движений – электричества, то, очевидно, этим утверждается и единство их продукта, т.е. человека, или единство вселенского человечества, т.е. весь мир есть жилище одного и того же человечества.
Это тождество подтверждается и тем теллурическим фактом, что все теоретические науки, как логика, психология, феноменология, метафизика, универсальны и потому неизменны, одни и те же, на Меркурии, на Венере, на Сатурне. Дважды два везде есть четыре; логика везде есть логика, Бог есть везде тот же самый Бог, а потому и поколику они разумны, т.е. продукты разума, – они универсальны и одни и те же для всех человечеств.
Вспомним еще раз высокие слова Писания: «И будет едино стадо и един пастырь». Здесь очевидно, что стадо есть человечество, а пастырь есть абсолютный, узами пространства не связанный Разум; тот же Разум правит миром и в нем построевается и не может иначе, т.е. неразумно построеваться. Лишь неразумное может допустить два разумения или многость разумений и поступание человечества во всех мирах одинаково.
Этот огонь, вечный, пожирающий неразумных и слабых, и есть божественный, т.е. aбсолютный закон селекции, т.е. тот закон, по которому всевластно и фатально сильные крепнут, множатся и процессуют, а слабые слабеют, истребляются и в конце концов исчезают; ибо дьяволы и есть непроцессующие люди-звери, коснеющие в своем зверстве и злобе, а напротив, разумные и сильные люди и суть бесконечное, бесконечно процессующее человечество; а божественный евангельский страшный суд есть сама неумолимо-судящая мудрость Бога, столько же субъективная, сколько и объективная, которая была мною указана и пред которой всяческое конечное есть нуль и ничтожество, проходимость и тля.
Очевидно, что этим страшным судом божественной мудрости человечество в своем поступании и процессует, т.е. к превечной разумности близится, поколику все дело состоит в том, что слабые огнем селекции потребляются и исчезают, а сильные развиваются, крепнут и процессуют.
Спрашиваю: очевидно ли, что потайный интуитивный разум природы волит силу, т.е. что сила и разум суть экстремы, тождественно противуположные, так как универсальный ряд имеет своим почином силу, а своим концевым моментом, т.е. своею целью, – разум, и сила есть починный себя еще не знающий бессознательный разум, а разум есть себя познавшая как абсолютное и потому с самой собою соключившаяся сила – человечество, а сам человеческий мир и есть та первая масса, в которой совершается этот эналакс электрической силы в силу мышления, т.е. в разум? Таким образом, электричество и разум стоят на обоих концах того жизненного биологического ряда, который являет собою поступание починной электрической силы в разум.
Сила стоит с одного конца естественного ряда, а разум – с другого, и весь этот универсальный, т.е. абсолютный, процесс есть не иное что, как исхождение силы в разум; ибо сила и есть себя еще не знающий разум, а разум есть уже себя знающая сила. Сила есть починный, бессознательный разум, а разум и есть сама с собою сключившаяся и себя узнавшая сила. Какая же это естественная физическая сила, которая в своей высшей потенции есть разум? Сила эта есть зерно разума, а разум есть плод силы. Сила и разум суть члены всемирного ряда. Очевидно, эта на наших днях в мире себя утверждающая универсальная сила – электричество, которая под сводом человеческого черепа, т.е. в человеческом мозгу, изошла в разум. Ряд этого исхождения и есть электрический ряд. Нервная трубчатая масса человеческого мозга и есть та живая электрическая масса, в которой совершается исхождение бессознательной физической силы электричества в ощущение, представление, потом в мышление, а наконец, в высшее, т.е. спекулятивное, мышление, которое бесконечное исчисляет (интегральное исчисление) и мыслит,– спекулятивная философия.
Культурный человек противоположен естественному человеку, сыну природы, т.е. дикому человеку. Употребление этой дикости и есть социальный процесс или всемирная история человечества. Культура, образованность и есть та работа духа, которая естественную форму – природу упраздняет, и потому дух и есть в абсолютной идее третье к логическому и природе, есть негация природы и цель, к которой она, природа, идет и в своем изменении проходит и потому в конце этого своего поступания исходит в дух.
Одухотворение природы есть сотворение человека, или, лучше, сам человек и есть это исхождение природы в дух, ибо человек, как и Яну с, имеет два лица, два фаса, одним он обращен к природе – это и есть его тело, а другим он обращен к духу – и это есть его мышление, т.е. чистый бестелесный дух. Этот бестелесный человеческий дух и есть сам Разум, или разумный Бог. Боги будете, сказано в Писании.
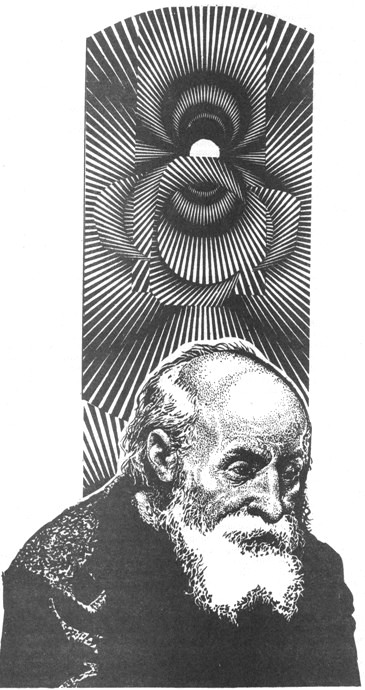 В истории существуют духовные явления, содержание и смысл которых раскрываются не сразу. Пройдя незаметно или затронув небольшой круг умов и сердец, они с течением времени все возрастают в величии и силе. К такого рода явлениям принадлежит наследие Николая Федорова, поразительно национальное по своим прозрениям и устремлениям и вместе с тем (а возможно, и поэтому) достигающее уровня универсальных, мировых идей. Никто другой из блистательного созвездия русских мыслителей конца прошлого и нашего века не объял в своем влиянии такие широкие ряды культуры, как Федоров: от Ф. Достоевского и Л. Толстого до М. Горького и В. Брюсова, от В. Хлебникова и В. Маяковского до Н. Клюева и Н. Заболоцкого, от художников В. Чекрыгина и П. Филонова до такого выдающегося прозаика философского склада, как М. Пришвин, или такого гения, как А. Платонов.
В истории существуют духовные явления, содержание и смысл которых раскрываются не сразу. Пройдя незаметно или затронув небольшой круг умов и сердец, они с течением времени все возрастают в величии и силе. К такого рода явлениям принадлежит наследие Николая Федорова, поразительно национальное по своим прозрениям и устремлениям и вместе с тем (а возможно, и поэтому) достигающее уровня универсальных, мировых идей. Никто другой из блистательного созвездия русских мыслителей конца прошлого и нашего века не объял в своем влиянии такие широкие ряды культуры, как Федоров: от Ф. Достоевского и Л. Толстого до М. Горького и В. Брюсова, от В. Хлебникова и В. Маяковского до Н. Клюева и Н. Заболоцкого, от художников В. Чекрыгина и П. Филонова до такого выдающегося прозаика философского склада, как М. Пришвин, или такого гения, как А. Платонов.
Сергей Булгаков, сетуя в связи с Федоровым, что ему никто из мыслителей не сказал решительного «да», никто «не решился сказать и прямого «нет», приходит к такому выводу: «Остается признать, что не пришло еще время для жизненного опознания этой мысли, – пророку дано упреждать свое время»45. Как же сейчас обстоят дела с этим «опознанием», продвинулось ли оно за истекшие почти полвека? В значительной степени – да! Федоровские идеи регуляции природы, борьбы со смертью, обретения человеком и человечеством более высокого онтологического статуса были признаны лежащими у истоков активно-эволюционной, космической, ноосферной мысли XX в. Но при всем своем универсализме, обращенности и к верующим, и к неверующим Федоров мыслитель по преимуществу религиозный, ибо устремляет человечество к наивысшим и наиблагим идеалам и целям, которые только можно себе помыслить и представить сердечной мечтой, – а выработка таких устремлений всегда является глубоко религиозным актом.
Долгое время значительная часть жизни Николая Федоровича была скрыта некоей завесой таинственности. Да и вторая ее половина, когда он становится знаменитой личностью Москвы, «необыкновенным библиотекарем» Румянцевского музея, укладывалась чаще всего в некую образцовую, почти житийную схему неустанного подвижничества и духовных подвигов. Сравнивали его по загадочности биографических истоков со старцем Федором Кузьмичом, по самоотверженному служению людям с доктором Федором Гаазом, называли своего рода первосвященником по чину Мельхиседека (т.е. не по помазанию, а по свободному избранию), московским Сократом, поскольку его учение распространялось по преимуществу устно, в узком кругу друзей и последователей.
И только в последнее время удалось более точно раскрыть самую тайну его рождения, ряд важнейших эпизодов его до-московской биографии. Родиной мыслителя оказалось село Ключи Тамбовской губернии, где в начале июня (по новому стилю) 1829 г. дворянская девица Елизавета Иванова родила его от князя Павла Ивановича Гагарина. Как незаконнорожденный, Николай получил отчество и фамилию по имени своего крестного отца. «От детских лет сохранились у меня три воспоминания: видел я черный, пречерный хлеб, которым (говорили при мне) питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал с детства объяснение войны (на мой вопрос о ней)., которое привело меня в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга, наконец, узнал я о том, что есть и не родные, чужие: и о том, что сами родные – не родные, а чужие». Под этими строками – заголовок «Необходимое дополнение». Голод, смерть, неродственность – эти фундаментальные натуральные бедствия человека, ставшие главным предметом преобразовательного дерзания мыслителя, впечатались в него сильнейшим экзистенциальным первооткрытием; потрясение, взлом сознания уходят в самые глубины его складывающейся личности. «Чувство смертности и стыд рождения» – так позднее определит Федоров два основных аффекта, образующих травматическое ядро человека. Ранняя смерть деда, знаменитого вельможи Ивана Алексеевича Гагарина, повергшая в безутешную горесть всех близких в имении отца, где воспитывался маленький Николай, позднее смерть дяди, предводителя тамбовского дворянства Константина Гагарина, его покровителя, на чьи деньги он учился в Тамбовской гимназии и в (одесском Ришельевском лицее, не говоря уже о «стыде рождения», усугубленном самым фактом незаконнорожденности, – в случае с Федоровым мы сталкиваемся с обостренно-невротическим переживанием и «стыда рождения», и «чувства смертности», но давшим уникально созидательный, религиозно-пророческий выход. Осень 1851 г. – поворотный рубеж в жизни Николая Федоровича; внешне он означен смертью дяди, уходом из лицея, внутренне – колоссальным переворотом, когда ему открылась основная идея его учения, «мысль, что чрез нас, чрез разумные существа, природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте». Двадцати двух лет Николай бросил такой решительный вызов смерти, как никто из смертных за всю историю. Победа над ней мыслилась им настолько радикальной, что предполагала возвращение к жизни поиском, трудом и творчеством всех ушедших поколений. Явление идеи совпадает с резким жизненным переворотом, новым фундаментальным выбором: не попадаться в сладкую ловушку человеческого жребия, забываясь в автоматизме его исполнения – семья, деньги, успехи по службе, благочинная кончина... Выбор был сделан: подвиг в миру и вызревание Слова для будущего явления миру Дела воскрешения. Между осенью 1851 г. и началом февраля 1854 г., когда Федоров начинает свою растянувшуюся на 14 лет преподавательскую службу в уездных училищах, он ведет какую-то свою жизнь, нигде не служит и не оставляет никаких следов. Эти два с половиной свободных года Николая Федоровича в поле пронзившей его Идеи, начавшей невиданно располагать все предметы, события, отношения мира, культурные достижения и системы мысли, были для него основополагающими. Устанавливался особый, никогда так не раскрывавшийся взгляд, уникальная родственно-отеческая и воскресительная «оптика».
В каком-то сугубо личном смысле Николай Федорович может показаться одиноким, обделенным тем интимным, душевным общением, которое дают любимая женщина, дети. (Да, всю жизнь он прожил аскетом, питался в основном чаем с хлебом, спал три-четыре часа на голом сундуке, ходил круглый год в одном и том же стареньком пальто, все свое жалованье раздавал нуждавшимся.) Но у Николая Федоровича был бесконечно дорогой ему Дом, где грелось его сердце, где он чувствовал себя среди «родных, а не чужих», – Храм. Церковь питала его чувством причастности к проходящей через века, связующей живых и мертвых и уходящей в небо общечеловеческой общности. Многократно Федоров говорил о себе как о человеке, «воспитанном службою Страстных дней и Пасхальной утрени». И свое учение он называл Новой Пасхой, излагал в форме «пасхальных вопросов». Проходя душевную и интеллектуальную школу храмового образования, глубоко сердечно укореняя в себе идеал преодоления закона «мира сего», Николай Федорович грезил о том времени, когда христианство из молитвы превратится в Дело, выйдет из храма, когда литургия станет внехрамовой, вынесет свое тайнодействие в мир, станет реальным пресуществлением праха в живые преображенные плоть и кровь.
Новым смыслом зажглись для него в эти годы евангельские глаголы. Его пронзило Христово: «Дела, которые Я Творю, и он (верующий в Меня. – С. С.) сотворит и больше сих сотворит», а размах Его дел был всеобъемлющ: включал не только нравственную проповедь (так прежде всего и опознали Его дело), но и управление силами природы (утишал бури, ходил по водам), исцеление больных и, наконец. Его Дело дел: воскрешение из мертвых. Среди программных заповедей Евангелия для Федорова важнейшее значение получили две: призывающая к единству, к братотворению весь род людской («Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе») и так называемая заповедь научения («Шедше научите вся языки...»). Позднее он писал, что содержание научения не дано здесь Христом, а как бы оставлено на вызревание в человечестве. И перед Николаем Федоровичем должны были возникнуть вопросы, куда ему самому идти для начала, кого учить, какие «языки». И он пошел в школу, причем в школу начальную, дающую первое направление душе и уму: он пошел к детям, к стественным носителям детского чувства родства, которое для Федорова было критерием нравственности. «Возвратить сердца сынов отцам», причем в самом полном смысле – всем когда-либо жившим предкам, населявшим эту Землю и творившим ее историю, – вот тот основной внутренний переворот, который должен произойти в людях; преподавании географии и истории («География говорит нам о Земле как о жилище; история же – о ней как о кладбище») молодой Николай Федорович и пытался начать непосредственно на живых детских душах конкретную работу в этом направлении. Такое сочетание мыслительной разработки вселенски-преобразоватсльных проектов обязательной, тут же выходящей в жизнь практической инициативой, пусть «малой», но озаренной и поднятой Идеей, было свойственно деятельности Федорова до конца.
Это же сопряжение мы встречаем и в его долголетней библиотечной деятельности: 1869 г. он становится помощником библиотекаря московской Чертковской библиотеки, а с 1874 г. переходит в Румянцевский музей, где при всей своей скромной должности дежурного по читальному залу становится на четверть века духовным средоточием всей музейной деятельности). Колоссальный авторитет Федорова у коллег и посетителей, среди которых были виднейшие ученые, писатели, философы, вырастал из его нравственной чистоты, полного материального самоотречения, фантастического объема знаний, щедро раздаваемых нуждающимся. Дело было не просто в феноменальной памяти Николая Федоровича (говорят, что он знал чуть ли не наизусть содержание всех книг самого большого в стране хранилища). Ему было дано какое-то удивительное восчувствие культуры как живого организма в морфологической целесообразности и взаимосвязанности ее частей и отраслей – отсюда каждый раз его рекомендация и совет обнаруживали не вершковое, популярно-энциклопедическое сведение, а знание глубокое, исследовательское.
На 80–90-е гг. приходится и его достаточно интенсивное общение со Львом Толстым и Владимиром Соловьевым. Отношения эти были неровными, прерывались и новь восстанавливались и кончились разрывом. Федорова отличало одно изумлявшее всех качество: абсолютное нежелание запечатлеть, увековечить себя в истории как мыслителя, как культурного деятеля. Он если и выступал в печати, то всегда анонимно или под псевдонимом. Кроткий и уступчивый в личных отношениях, Федоров становился непримирим, когда речь шла об учении «всеобщего дела», которое он расценивал как доведенный до высокого градуса сознания голос веков и поколений (недаром и основное его сочинение написано в форме «Записки от неученых к ученым» как бы от имени этих народных масс, живущих и живших). От близких людей, от тех, с которыми сама их духовная высота заставляла требовать многое, Николай Федорович не признавал ничего среднего между «да» и «нет». Все его попытки переложить на авторитетные плечи бремя вынесения в мир учения о воскрешении терпели провал. Хотя для самих кандидатов на эту должность – будь то для Достоевского, познакомившегося с идеями Федорова в письменном изложении перед работой над «Братьями Карамазовыми», или для Л.Н. Толстого и особенно для В.С. Соловьева – их контакт личностью и идеями Федорова остался далеко не бесследным.
В последние годы жизни философ начинает напряженно работать над окончательым приведением своих рукописей в порядок для скорейшего их обнародования уже од собственным именем, но его труд прерывает неожиданная смерть. Николай Федорович скончался 28 декабря 1903 г. в Мариинской больнице для бедных от двустороннего воспаления легких. Перед смертью он передал все бумаги своему ученику В.А. Кожевникову. Похоронен Федоров на кладбище Скорбященского монастыря. Могила философа памяти, призывавшего живых обратиться сердцем и умом к кладбищам, была снесена в 1929 г.: место последнего упокоения было утрамбовано под игровую площадку. Осуществилось его пророчество о нравственном одичании, одним из симптомов которого станет «превращение кладбищ в гульбища», а «сынов человеческих» в «блудных сынов, пирующих на могилах отцов».
Работу по подготовке к изданию написанного Федоровым завершили его ученики последователи Н.П. Петерсон и В.А. Кожевников, выпустившие два тома «Философии общего дела»: первый – в 1906 г. в городе Верном (ныне Алма-Ата), второй – в 1913 г. в Москве. Подготовленный к печати третий том статей и писем Федорова так и не увидел свет. Отрывки из него вошли в изданные в 1982 г. «Сочинения» мыслителя.
Идеи «регуляции природы» и «имманентного воскрешения» находят у Федорова обоснование и естественнонаучное, и религиозное. Во вступительной статье к данной антологии рассмотрены больше естественнонаучные стороны учения «общего дела». Здесь же коротко остановимся на христианских аспектах, имеющих особое значение для религиозной ветви русского космизма.
Свое учение Федоров называл активным христианством, раскрыв в глубинах «Благой вести» Христа прежде всего ее космический смысл: призыв к активному преображению природного, смертного мира в иной, не-природный, бессмертный божественный тип бытия (Царствие Небесное). Требование активности человека вытекает из основоположений христианской антропологии, как ее понимает мыслитель: Бог создает и совершенствует человека через него самого, начиная с первого акта его самодеятельности – принятия вертикального положения и дальнейшего его трудового устроения. Федоров высказывал и такую проницательную мысль: Бог учит человека «так сказать, гевристически, т.е. человек должен не только вложить собственный труд, весь ум, все свое искусство в великое дело воскрешения, но и додуматься до необходимости собственного участия в нем», а человечество – воспитать из себя коллективное орудие, достойное того, чтобы через него могла начать активно действовать Божья воля.
В своем учении Федоров доводит до благого максимума христианский тип эсхатологии, восполнив два, на его взгляд, извращения христианского идеала: частичность, невсеобщность спасения и его сверхъестественный катастрофизм при пассивном ожидании исполнения последних сроков. Развязка драмы мировой истории в виде неудержимого и неустранимого каскада страшных казней, запланированных божественной инстанцией, больше всего парализует всякую волю к человеческому действию в деле своего достойного онтологического устроения. А если речь идет не о фатальной развязке, а о картине тех бедствий, которые ждут человечество как раз при его пассивности, упорстве на избранном пути рабствования порядку вещей? Пророчество о дурном конце может иметь характер угрозы, предупреждения. Таково знаменитое пророчество о разрушении Ниневии и каре ее жителям, произнесенное Господом, но снятое с них, когда они покаялись от проповеди Ионы. Философ «общего дела» твердо встает на точку зрения условности апокалипсических пророчеств, необходимости всеобщего спасения в ходе имманентного воскрешения, которого достигает «по велению Бога» в потоках его благодати объединенное братское человечество, овладевшее тайнами жизни и смерти, секретами «метаморфозы вещества». Трансцендентное же воскресение, верит Федоров, совершится только в том случае, если человечество не придет в «разум истины». И это будет, воистину, «воскресением гнева», когда произойдет окончательное разделение рода людского на спасенных и вечно проклятых. Такое разрешение конечных судеб есть на деле казнь для всех: и не только для грешников (вопль и скрежет зубовный), но и для праведных (так ли уж сладко им, самым чистым и совестливым, быть свидетелями страшных мук своих ближних?!).
Но не может быть безысходного ада, невозможен ни в какой форме садизм Царствия Небесного, убежден мыслитель. Но готового рая тоже пока быть не может, ибо нет абсолютно праведных: все причастны к первородному греху пожирания и вытеснения, все нуждаются в очищении. Чистилище – физическая и нравственная необходимость для всех. Под чистилищем можно понимать и историю, и настоящее человечества, подверженного бичам природных сил вне и внутри себя: снаружи бушует глад, наводнения, пожары, извержения; изнутри индивидуальной и коллективной людской природы рвется злое самоутверждение, насилие, убийство, война, но вместе происходит и самовоспитание человечества, растут его созидательные силы, осознаются пути спасения. Но чистилище истории, предрекает Федоров, частью есть, а может и целиком обернуться форменным адом. На природном, языческом пути человечество идет к своему концу, «страшному суду» самоистребления; признаки конца мира уже проступают трупными пятнами на теле современного мира. Проход через настоящее чистилище еще только предстоит; очищение и спасение произойдут в самом процессе созидания Рая, Царствия Небесного, постепенного преобразования человеком себя из существа пожирающего, вытесняющего и смертного в самосозидающее, воскрешающее, бессмертное. Федоров развивает то течение в лоне христианства, которое стремиилось утвердить полноту его восстанавливающих и жизнетворческих начал (Ориген, Григорий Нисский с их учением об условном характере адских мук и о всеобщем апокатастасисе, т.е. восстановлении всего мира, без всяких исключений, в прославленное состояние). По воскресении убийственные результаты злой деятельности аннулируется, ибо все жертвы вытеснения вольного и невольного возвращаются к жизни вечной. Новый, высший уровень сознания воскрешенных, в том числе и прямых злодеев, раскроет перед ними (как и перед всеми, только в разной степени) всю бездну их земых грехов, так что этап нравственного мучения и очищения (разной длительности адские муки») неизбежно предшествует включению грешников в единое любовное бытие «по типу Троицы».
Со своим призывом к Делу мыслитель обращается и к верующим, и к неверующим. Сила его в том, что оно, действительно, может быть принято всеми смертными. Апеллируя главным образом к нравственному чувству человека, его глубочайшей интуиции должного бытия, одним словом, к зову Бога в человеке, идеал «всеобщего дела» предлагает выход для любого онтологического варианта, даже для ситуации крайнего метафизического отчаяния: Бога нет, и мир бессмыслен. На это Федоров ответил бы: если это так, то мы должны придать ему смысл. Если Бога нет, в таком виде, как его представляют теистические религии, тогда идеал божественного бытия как регулятивная идея должного ведет нас к созидании) такого бытия, к его постепенному расширению на всю Вселенную. Во всеобщем деле, по глубокому убеждению великого мечтателя, могут и должны наконец соединиться все: и верующие, и неверующие, все народы, все люди Земли.
Тот материал, из коего образовались богатырство, аскеты, прокладывавшие пути в северных лесах, казачество, беглые и т.п.- это те силы, которые проявятся еще более в крейсерстве*28 и, воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе необходимого выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, потрясения. Ширь Русской земли способствует образованию подобных характеров; наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига. Постепенно, веками образовавшийся предрассудок о недоступности небесного простора не может быть, однако, назван изначальным. Только переворот, порвавший всякие предания, отделивший резкою гранью людей мысли от людей дела, действия, может считаться началом этого предрассудка. Когда термины душевного мира имели чувственное значение (когда, напр., «понимать» значило «брать»), тогда такого предрассудка быть еще не могло. Если бы не были порваны традиции, то все исследования небесного пространства имели бы значение исследования путей, т.е. рекогносцировок, а изучение планет имело бы значение открытия новых «землиц», по выражению сибирских казаков, новых миров. Но и в настоящее время, несмотря на рутину и предрассудки, при всех исследованиях подобного рода, даже при самых умственных, отвлеченных операциях, эта мысль о пользовании исследуемыми путями и мирами втайне присутствует в умах исследователей, ибо человек не может отрешиться от себя, не может не относить к себе всего и не ставить себя всюду (разумеем философов, ученых). Для сынов же человеческих небесные миры – это будущие обители отцов, ибо небесные пространства могут быть доступны только для воскрешенных и воскрешающих; исследование небесных пространств есть приготовление этих обителей. Если же такие экспедиции в исследуемые миры невозможны, то наука лишена всякой доказательности; не говоря уже о пустоте такой науки., низведенной на степень праздного любопытства, мы даже не имеем права утверждать, что небесное пространство имеет три, а не два измерения. Распространение человека и по земному шару сопровождалось созданием новых (искусственных) органов, новых покровов. Задача человека состоит в изменении всего природного, дарового в произведенное трудом, в трудовое; небесное же пространство (распространение за пределы Земли) и требует именно радикальных изменений в этом роде. В настоящее время, когда аэростаты обращены в забаву и увеселение, когда в редком городе не видали аэронавтических представлений, не будет чрезмерным желание, чтобы если не каждая община и волость, то хотя бы каждый уезд имел такой воздушный крейсер для исследования и новых опытов. (Должно заметить, как ни велики здесь замыслы, но исполнение их стоит не дороже того, что тратится на увеселения, и даже не вводится никакого нового расхода, а изменяется лишь назначение того, что прежде служило одному увеселению.) Аэростат, паря над местностью, вызывал бы отвагу и изобретательность, т.е. действовал бы образовательно; это было бы, так сказать, приглашением всех умов к открытию пути в небесное пространство. Долг воскрешения требует такого открытия, ибо без обладания небесным пространством невозможно одновременное существование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно достижение полного обладания небесным пространством. К этому нужно прибавить, что время, когда будут колонизированы наши азиатские владения, есть именно тот срок, в который открытия в небесных пространствах должны привести к положительному результату, ибо к тому времени, нет сомнения, все остальные части света будут переполнены населением. Этот великий подвиг, который предстоит совершить человеку, заключает в себе все, что есть возвышенного в войне (отвага, самоотвержение), и исключает все, что есть в ней ужасного (лишение жизни себе подобных).
Вопрос об участи Земли приводит нас к убеждению, что человеческая деятельность не должна отграничиваться пределами земной планеты. Мы должны спросить себя: знание об ожидающей Землю судьбе, об ее неизбежном конце, обязывает ли нас к чему-либо или нет? Или, иначе сказать, такое знание естественно ли, т.е. необходимо ли и нужно ли оно на что-нибудь в природе, или же неестественно и составляет бесполезный придаток? В первом случае, т.е. если такое знание естественно, мы можем сказать, что сама Земля пришла в нас к сознанию своей участи и это сознание, конечно, деятельное, есть средство спасения; явился и механик, когда механизм стал портиться. Дико сказать, что природа создала не только механизм, но и механика; нужно сознаться, что Бог воспитывает человека собственным его опытом; Он – Царь, который делает все не только лишь для человека, но и чрез человека; потому-то и нет в природе целесообразности, что ее должен внести сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность. Творец чрез нас воссоздает мир, воскрешает все погибшее; вот почему природа и была оставлена своей слепоте, а человек своим похотям. Чрез труд воскрешения человек, как самобытное, самосозданное, свободное существо, свободно привязывается к Богу любовью. Поэтому же человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще какою силою приводимого в движение, корабля – есть ли он фото-, термо- или электроход. Да мы и знать не будем достоверно, какою силою движется наша Земля, пока не будем управлять ее ходом. Во втором же случае, т.е. если знание о конечной судьбе Земли неестественно, чуждо, бесполезно для нее, тогда остается сложить руки и застыть в страдательном (в полном смысле этого слова) созерцании постепенного разрушения нашего жилища и кладбища, т.е. погубить не себя только, не живущее лишь поколение, но лишить будущего и все прошедшее, совершить грех, преступление не против братьев только, но и против отцов. Естественно ли это?! Такое положение может быть нормальным только для кабинетного ученого, который и сам есть величайшая аномалия, неестественность.
Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода из одного мира в другой только кажущаяся; необходимость такого перехода несомненна для трезвого, прямого взгляда на предмет, для тех, кто захочет принять во внимание все трудности к созданию общества вполне нравственного, к исправлению всех общественных пороков и зол, ибо, отказавшись от обладания небесным пространством, мы должны будем отказаться и от разрешения экономического вопроса, поставленного Мальтусом*29, и вообще от нравственного существования человечества. Что фантастичнее: думать об осуществлении нравственного идеала в обществе и закрывать глаза на громадность, обширность препятствий к тому или же трезво признавать все эти препятствия? Конечно, можно отказаться и от нравственности, но это значит отказаться быть человеком. Что фантастичнее: построение нравственного общества на признании существования в иных мирах иных существ, на признании эмиграции туда душ, в действительном существовании чего мы даже и убедиться не можем, или же обращение этой трансцендентной*30 миграции в имманентную*31, т.е. поставление такой миграции целью деятельности человечества?
Препятствия к построению нравственного общества заключаются в том, что нет дела настолько обширного, чтобы поглотить все силы людей, которые в настоящее время расходуются на вражду; во всей всемирной истории мы не знаем такого события, которое, грозя гибелью обществу, соединило бы все силы и прекратило бы все раздоры, всякую враждебность в нем. Во все периоды истории очевидно стремление, которое показывает, что человечество не может удовлетвориться тесными пределами Земли, только земным. Так называемые экстатические хождения, восхищения*32 на небеса суть выражения этого же стремления; не доказывает ли это, что, пока не открыто более широкой деятельности, не общественной, а естественной, до тех пор за эпохами трезвости, собственно, усталости от бесплодных стремлений, будут наступать вновь эпохи энтузиазма с экстатическими восхищениями на небеса, всякого рода видениями и т.п.? Вся история и заключается в таких бесплодных переходах из одного настроения в другое; наше же время может служить еще большим доказательством сказанного положения, так как теперь мы видим рядом с проявлением «царства мира сего» во всей его грязной действительности и царство Божие в виде самообольщений (ревивали*33, спиритические фокусы и т.п.). Если не будет естественного, реального перехода в иные миры, будут фантастические, экстатические хождения, будут упиваться наркотиками; да и самое обыкновенное пьянство в большинстве случаев можно, по-видимому, отнести к тому же недостатку более широкой, чистой, всепоглощающей деятельности. <...>
Существенною, отличительною чертою человека являются два чувства – чувство смертности и стыд рождения. Можно догадываться, что у человека вся кровь должна была броситься в лицо, когда он узнал о своем начале, и как должен был он побледнеть от ужаса, когда увидел конец в лице себе подобного, единокровного. Если эти два чувства не убили человека мгновенно, то это лишь потому, что он, вероятно, узнавал их постепенно и не мог вдруг оценить весь ужас и низость своего состояния. Педагоги затрудняются отвечать на вопрос весьма естественный, как полагают, вернее же сказать, совершенно праздный, у детей – об их происхождении, начале; а ответ дан в Писании – животно подобное рождение будет наказанием. Сознание же, вдумывающееся в процесс рождения, открывает нечто еще более ужасное; смерть, по определению одного мыслителя, есть переход существа (или двух существ, слившихся в плоть едину) в другое посредством рождения. У низших животных это наглядно, очевидно: внутри клеточки появляются зародыши новых клеточек; вырастая, эти последние разрывают материнскую клеточку и выходят на свет. Здесь очевидно, что рождение детей есть вместе с тем смерть матери. Они, конечно, не сознают, что их рождение было причиною смерти родительницы; но придадим им это сознание, что́ они почувствуют тогда? Сознав себя убийцами, хотя и невольными, куда будет устремлена их деятельность, если они будут обладать волею, способностью действовать, полагая, что воля их не будет злая, что они не будут лишены совести? Несомненно, они не скажут, не испытав всех способов, что убитых ими невозможно воскресить, у них никогда не повернется язык сказать страшное слово «невозможно», что грех неискупим. И во всяком уж случае они не захотят скрыть от себя концов своего греха и не примутся за пир жизни. В приведенном примере клеточка явилась на свет совершеннолетней – человек же рождается несовершеннолетним; во все время вскормления, воспитания он поглощает силы родительские, питаясь, так сказать, их телом и кровью (конечно, не буквально, но в прямом смысле); так что, когда окончится воспитание, силы родительские оказываются совершенно истощенными и они умирают или же делаются дряхлыми, т.е. приближаются к смерти. То обстоятельство, что процесс умерщвления совершается не внутри организма, как, например, в клеточке, а внутри семьи, не смягчает преступности этого дела.
Итак, и стыд рождения, и страх смерти сливаются в одно чувство преступности, откуда и возникает долг воскрешения, который прежде всего требует прогресса в целомудрии. В нынешнем же обществе, следующем природе, т.е. избравшем себе за образец животное, все направлено к развитию половых инстинктов. Вся промышленность, прямо или косвенно, возникает из полового подбора. Красивое оперение, устройство гнезда, т.е. моды, будуары, мягкая мебель. – все это возникает и служит половым инстинктам. Англия берет из обеих Индий материалы для тканей, краски для придания им особого блеска, а также пряности, косметики... Франция же, как модистка, парикмахер, придает этим материалам ту форму, ту иллюзию, которая содействует природе в «обмане индивидуумов для сохранения рода». (Так один философ определяет любовь.) Литература, художество, забыв свое истинное назначение, большею частью служат тому же инстинкту. Наука, как служанка мануфактурной промышленности, профанирует разум служением тому же половому подбору <...>
Когда устранятся искусственные возбуждения полового инстинкта, тогда останется естественный инстинкт – сила могучая и страшная, ибо это вся природа. И пока эта слепая сила не будет побеждена целомудрием, т.е. полною мудростью, сколько умственною, столько же и нравственною, иначе, пока природа не придет через человека к полному сознанию и управлению собою, пока существует рождение, пока у людей будут потомки, до тех пор и в земледелии не будет еще правды и полного знания, и земледелие должно будет обращать прах предков не по принадлежности, а в пищу потомкам, для чего не нужно знание прошедшего, а достаточно знать лишь настоящее. (Хотя прах человеческий и смешан с гнилью, производимою при жизни и по смерти всеми животными, тем не менее присутствие в земле хотя бы незначительной частицы праха предков дает нам право говорить о превращении праха предков в пищу потомков.) Вещество же, рассеянное в небесных пространствах, тогда только сделается доступным, когда и самое питание, еда, обратится в творческий процесс создания себя из веществ элементарных. И в самом человеке не будет не только любви, но и правды, пока излишек силы, процент на капитал, полученный от отцов, будет употребляться на невежественное, слепое рождение, а не на просвещенное, свободное возвращение его кому следует. Язва вибрионов не прекратится, ибо, пока будет рождение, будет и смерть, а где труп, там соберутся и вибрионы. <...>
Целомудрие не может быть усвоено вполне процессом рождения, чрез наследственность, ибо передача по наследству совершается все же чрез нарушение целомудрия; а потому борьба с половым инстинктом для приобретения целомудрия не может быть только личною (как и вообще все личное не имеет искупительной силы, хотя оно и имеет предварительное значение), так как недостаточно сохранение невинности только, нужно полное торжество над чувственностью, нужно достигнуть такого состояния, чтобы виновность была невозможна, чтобы освободиться от всякого пожелания нечистого, т.е. не только не рождаться, но и сделаться нерожденным, т.е. восстановляя из себя тех, от коих рожден сам, и себя воссоздать в виде существа, в котором все сознается и управляется волею. Такое существо, будучи материальным, ничем не отличается от духа. <...>
Положительное целомудрие действует не чрез лишение пищи, а посредством земледелия как опыта, обнимающего постепенно и всю Землю и земли, т.е. планеты и проч., и обращающего весь этот материал на постройку как собственного тела, так и тел своих отцов и предков. Отсюда само собою определяется сущность того организма, который мы должны себе выработать. Этот организм есть единство знания и действия; питание этого организма есть сознательно-творческий процесс обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Органами этого организма будут те орудия, посредством коих человек будет действовать на условия, от которых зависит жизнь растительная и животная, т.е. земледелие как опыт, через который открывается знание земной планеты, сделается органом, принадлежностью этого организма. Органами его сделаются и те способы аэро- и эфиронавтические, помощью коих он будет перемещаться и добывать себе в пространстве Вселенной материалы для построения своего организма. Человек будет тогда носить в себе всю историю открытий, весь ход этого прогресса; в нем будет заключаться и физика, и химия, словом, вся космология, только не в виде мысленного образа, а в виде космического аппарата, дающего ему возможность быть действительным космополитом, т.е. быть последовательно всюду; и человек будет тогда действительно просвещенным существом.
Несмотря на такие, по-видимому, изменения, в сущности человек ничем не будет отличаться от того, что такое он ныне, – он будет тогда больше силаш собою, чем теперь; чем в настоящее время человек пассивно, тем же он будет и тогда, но только активно; то, что в нем существует в настоящее время мысленно, или в неопределенных лишь стремлениях, только проективно, то будет тогда в нем действительно, явно, крылья души сделаются тогда телесными крыльями.
Но чтобы окрылиться, одухотвориться, сделаться сознательно действующим, нужно полное воссоздание. Человек есть существо рожденное, а не непосредственно возникшее, он есть изображение и подобие отцовского и материнского организмов со всеми их недостатками и достоинствами. Хотя иногда некоторые из родительских свойств будут проявляться в нем в преувеличенном, а другие в ослабленном виде, но в этом случае он есть как бы интерференция, происходящая от столкновения двух систем волн и производящая или потемнение, ослабление, или же усиление света. Человек, углубляясь в самого себя с целью самопознания, открывает, находит в себе самом предрасположения, наклонности, явления, для коих нет основания или причины в его собственной жизни; так что из намерения познать себя выходит познание своих составных частей, сознание того, что было прежде него, отчего он сам, познающий, произошел, что в него перешло, т.е. познание своих родителей.
Душа человека не tabula raca*34, не лист чистой бумаги, не мягкий воск, из которого можно сделать все, что угодно, а два изображения, две биографии, соединенные в один образ. Чем утонченнее будут способы познания, тем больше будет открываться признаков наследственности, тем ярче будут восставать образы родителей; полный ответ на древний вопрос, написанный над воротами Дельфийского оракула*35, – «познай самого себя» – мы будем иметь во всеобщем воскрешении. <...>
Смерть, можно сказать, есть анестезия, при коей происходит самое полное трупоразъятие, разложение и рассеяние вещества. Собирание рассеянных частиц есть вопрос космотеллурической*36 науки и искусства, следовательно, мужское дело, а сложение уже собранных частиц есть вопрос физиологический, гистологический, вопрос сшивания, так сказать, тканей человеческого тела, тела своих отцов и матерей, есть женское дело; конечно, было бы странно, если бы физиологическая и гистологическая наука ограничивалась только живосечением и не могла бы перейти к восстановлению. Как ни велик труд, который предстоит при восстановлении рассеянного вещества, не следует, однако, отчаиваться, что и те мельчайшие частицы, коих, по сказанию проникавших в них мыслью (занимавшихся вычислением величины атома, как Крукс*37, Томсон*38, напр.), заключают в себе столько еще более мелких частичек, сколько в земле может уместиться пистолетных пулек, – не нужно думать, что и эти частицы не откроют нам своих недр.
Все вещество есть прах предков, и в тех мельчайших частицах, которые могли бы быть доступны невидимым для наших глаз микроскопическим животным, и то лишь, если бы они были вооружены такими микроскопами, которые расширяли бы область их зрения настолько же, насколько наши микроскопы расширяют круг нашего зрения, и там, и в этих в квадрате, в кубе и т.д. микроскопических частичках, мы можем найти следы наших предков. Каждая частица, состоящая из такого множества частичек, представляет такое же разнообразие, в каком является для нас земля. Каждая среда, через которую проходила эта частица, оставила на ней свое влияние, свой след. Рассматриваемая с археологической или палеонтологической стороны частица, может быть, представляет нечто вроде слоев, сохраняющих, быть может, отпечатки всех влияний, которым подвергалась частица, проходя разные среды, разные организмы. Как бы ни дробилась частица, новые, происшедшие от этого дробления частицы, вероятно, хранят следы разлома; они, эти частицы, подобны, может быть, тем знакам гостеприимства у древних, которые назывались символами, сфрагидами: при расставании разламывалась вещь, и куда бы ни разошлись минутные друзья, унося каждый половину разломанной вещи, при новой встрече, складывая половинки, они тотчас же узнавали друг друга. Представим же себе, что мир, вдруг или не вдруг, осветился, сделался знаем во всех своих мельчайших частицах, не будет ли тогда для нас ясно, какие частицы были в минутной дружбе одна с другой, в каком доме или организме они гостили вместе, или какого целого они составляли часть, принадлежность. И ныне даже какой-нибудь валун, лежащий в южной России, своим составом и другими признаками не открывает ли нам, что он есть только обломок с каких-нибудь финских гор, унесенный оттуда льдинами. Если исследование таких громадных, сравнительно, тел, как валуны, еще не окончено, то какой труд и сколько времени потребуется для исследования частиц величиною в миллионную долю линии, и притом для исследования не настоящего только их состояния, строения, но всей истории каждой такой частицы? Трудно открытие способов исследования, трудно также исследование первых двух, трех частиц, но затем работа становится доступною для многих, и наконец для всех людей, освобожденных от торгово-промышленной суеты. Наконец, самое исследование так упрощается, что то, для чего требовались прежде годы труда, делается достижимым для одного взгляда, достаточно становится одного взгляда, чтобы определить место и время нахождения частиц в том или другом теле. Хотя частицы и могут сохранять следы своего пребывания в том или другом организме, в той или другой среде очень долгое время, но следы эти могут изглаживаться и исчезать, может быть; в таком случае нам нужно знать закон сохранения и исчезновения следов.
Трудность восстановления для каждого поколения того поколения, которое непосредственно ему предшествовало, совершенно одинакова, ибо отношение нынешнего поколения к своим отцам и того поколения, которое первое достигнет искусства восстановления, к его отцам точно такое же, как наших прапрадедов к их отцам. Хотя первый воскрешенный будет, по всей вероятности, воскрешен почти тотчас же после смерти, едва успев умереть, а за ним последуют те, которые менее отдались тлению, но каждый новый опыт в этом деле будет облегчать дальнейшие шаги. С каждым новым воскрешенным знание будет расти; будет оно на высоте задачи и тогда, когда род человеческий дойдет и до первого умершего. Мало того, для наших прапрапрадедов воскрешение должно быть даже легче, несравненно легче, т.е. нашим прапраправнукам будет несравненно труднее восстановить их отцов, чем нам и нашим прапрапрадедам, ибо мы воспользуемся при воскрешении своих отцов не только всеми предыдущими в этом деле опытами, но и сотрудничеством наших воскресителей; так что первому сыну человеческому будет легче всех восстановить его отца, отца всех людей.
Для воскрешения недостаточно одного изучения молекулярного строения частиц; но так как Они рассеяны в пространстве Солнечной системы, может быть, и Других миров, их нужно еще и собрать; следовательно, вопрос о воскрешении есть теллуросолярный*39 или даже теллурокосмический*40. Для науки, развившейся в торгово-промышленном организме, для науки разложения и умерщвления, такая задача недостижима; такая задача не может быть и целью подобной науки, если только наука не перерастет торгово-промышленного организма и не перейдет в иную среду, в среду сельскохозяйственную, где она сделается уже наукою не разложения и умерщвления, но наукою сложения и восстановления. Сельское хозяйство, чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиваться пределами Земли, ибо условия, от коих зависит урожай или вообще растительная и животная жизнь на Земле, не заключаются только в ней самой. Если верно предположение, что Солнечная система есть переменная звезда с одиннадцатилетним электромагнитным периодом, в течение коего и количество солнечных пятен, и магнитные (северные сияния), и электрические грозы достигают то своего максимума, то минимума, а с сими явлениями находится в связи весь метеорический процесс, от коего непосредственно зависит урожай или неурожай, в таком случае весь теллуросолярный процесс должен бы войти в область сельского хозяйства. Если верно также, что все переходы от одного явления к другому совершаются чрез посредство электричества, силы подобной или даже тождественной нервной силе, служащей орудием воли и сознания, то нынешнее состояние Солнечной системы можно уподобить тем организмам, в коих нервная система еще не образовалась, не отделилась от мускульной и других систем. Хозяйственная задача человека состоит именно в устройстве такого регулирующего аппарата, без коего Солнечная система остается слепою, не свободною, смертоносною силою, т.е. задача состоит в проложении, с одной стороны, тех путей, при пособии коих доходило бы до человеческого сознания все совершающееся в подсолнечной, а с другой – в проложении таких проводников, при посредстве коих все происходящее в ней, рождающееся, обращалось бы в действие, в восстановление.
Пока же не существует таких путей сознания и таких проводников действия, не говоря уже о периодических потрясениях и переворотах, мир будет представлять странный, извращенный порядок, который лучше бы, кажется, назвать беспорядком. «Равнодушная природа», нечувствующая, несознающая, будет «красою вечною сиять», личность же, сознающая благолепие нетления, будет чувствовать себя не только вытесняемой, но и вытесняющей. Существо, в котором нет ни вытесняющего, ни вытесняемого, могло ли быть творцом такого не космоса, а хаоса? <...>
|
Три формулы: а) художественная: объединение всех созданных по образу Бога-Творца, объединение воссоздателей (художников) для воссоздания всего, по вине людей разрушенного, всего, по их бездействию оставленного во власти смерти и тления, б) религозно-нравственная: объединение всех живущих (сынов) по образцу Триединого Боги отцов для воскрешения умерших (родителей) и в) научная: объединение разумных существ против слепой силы природы, смертоносной по своей слепоте, для обращения ее в управляемую разумом, следовательно, в живоносную. |
Соединяя все искусства в архитектуре, в лице ее совершеннейшего создания – в храме, как изображении кажущегося мироздания, а все науки, все знания соединив в астрономии, отрицающей кажущееся мироздание и обнимающей Землю со всеми ее обитателями, в их настоящем и прошедшем (палеонтология и история) и все миры со всеми их свойствами, физическими, химическими, мы получаем противоположность между наукою и искусством, между наукою, которая становится коперниканскою. и искусством, которое остается птоломеевским.
Переход к действительности заключается в уничтожении разрыва между наукою и искусством, между изображением кажущегося мироздания (архитектура, храм) и тем, как оно представляется мысли, мышлению или современной науке. Художество и поэзия до сих пор остались верны птоломеевскому, древнему воззрению на мир, потому что коперниканское воззрение на мир, говорят, «так непоэтично»; для него нет неба, а есть лишь земли; оно как бы создано для повой прозаической, светской истории.
Коперниканское воззрение, действительно, не поэтично, но потому, что оно требует поэтического творчества в действительном, а не в метафорическом смысле; оно требует примирения науки и искусства, которое совершится лишь в области действительности, когда наука и искусство будут иметь один и тот же материал, когда они будут действовать одною и тою же силою и сами земли сделают небесами. Про птоломеевское искусство говорят, что никогда не было обмана, более возвышающего нас, ибо из геоцентрического положения вытекало антропоцентрическое. Но как согласить центральное положение человека с его фактическим бессилием?.. Помещая человека в центре, птоломеевская система делала его только созерцателем, да притом созерцателем своего ничтожества, мир же представлялся здесь не слепою силою, а силою, управляемой разумом, но разумом нечеловеческим. Слепая сила, носящая в себе голод, язвы и смерть, понятна; но как разумную силу соединить с такими бедствиями?!.. Птоломеевская система указывала на человека как на особый предмет попечения Высшего Разума; но при этом было бы большою ошибкою думать, что Высший Разум являлся ревнивым к Своей власти и что человек обрекался на вечное несовершеннолетие. Но ведь человеческое совершеннолетие не воспрепятствует, конечно, Высшему Разуму быть всеведущим, всемогущим и все делать для людей, но делать чрез них самих! В этом является наибольшее величие Боги. Бессмертие души, и притом прирожденное, а не приобретенное, было необходимостью этой системы. Приобретенными при этом оказываются награды и наказания, и нет здесь места делу, делу общему, т.е. объединению для воскрешения, что, наоборот, составляет необходимость коперниканской системы, в которой человек не поставлен в центр и не служит целью мироздания. Но это-то именно и вынуждает самого человека внести целесообразность в мир, заставляет его самого стать правящею силою и сделать это внесение целесообразности в мир предметом общего дела.
Коперниканская система обращает человека из созерцателя в деятеля, а в мире видит слепую силу, признает мир силою слепою. Коперниканская система есть гипотеза, которая может получить подтверждение и полную, осязательную, доказательную силу лишь чрез постепенное и последовательное воскрешение всех прежде живших поколений. То будут как бы испытательные экспедиции для удостоверения в истинности всех предположений о движении миров во всей Вселенной, отдаленности их друг от друга и вообще всего, что входит в эту величавую гипотезу. Знание доказывается всеобщим делом, ибо знание, как вера, есть осуществление чаемого, т.е. требования человеческой природы. Наука доказывается искусством: коперниканская астрономия, вмещающая все науки, доказывается небесною архитектурою, обнимающею все искусства, основанные на небесных механике, физике, химии, физиологии, антропологии и всей истории. Это не значит низводить небеса в земли; это значит возводить земли и все миры в высшие, небесные, в управляемые любовью, разумом, или человеком, как орудием Бога отцов, Бога Триединого, образца единодушия и согласия, Существа всесовершенного. Бог, по коперниканской системе, есть Отец, не только делающий все для людей, но и чрез людей, требующий, как Бог отцов, от всех живущих объединения для воскрешения умерших и для населения воскрешенными поколениями миров для управления сими последними. Это и будет одухотворение миров воскрешенными поколениями. Коперниканская система для нравственного своего завершения требует регуляции миров чрез воскрешенные поколения; она дает знанию цель, а искусство делает живым, совершенным. Никакой «возвышающий нас обман» не может сравниться с истиною, возвышающею нас не мнимо, а действительно.
Спиритуалистическая, дуалистическая философия есть порождение птоломеевского или кажущегося мироздания, в коем небо отведено духовным существам, а Земля – телесным; тогда как не только новозаветная, но и ветхозаветная религии не знают этого раздвоения, ибо последняя одинаково относится и к «елика на небеси-горе», и к «елика на земли-низу»; а христианство лучший мир видит не в новой лишь земле, но и в новом небе, а не в нынешних, которые должны быть разрушены или преобразованы, смотря потому, последует ли покаяние, а с ним и объединение для воскрешения; если же покаяние не последует, тогда и наступят конец, разрушение...
Разрешение противоречия между коперниканскою наукою и искусством, которое все еще остается птоломсевским, потому в высшей степени важно для жизни, что коперниканское мировоззрение имеет то общее с мировоззрением христианским, что оба они признаются высшими истинами, но, несмотря на такое признание, ни то, ни другое в жизнь не проникли; нравственное устройство мира остается и до сих пор языческим, точно так же как до сих пор в жизни продолжают руководствоваться птоломеевским мировоззрением до того, что сами астрономы принуждены говорить о восхождении и захождении Солнца, Луны и звезд. Можно думать, что нравственное устройство мира станет христианским лишь тогда, когда не мысль только, не одно мировоззрение, но и само искусство, т.е. дело, станет коперниканским.
Как искусство, так и наука начинаются с заповеди «будьте как дети». Только понесшие утрату дети, т.е. сыны умерших отцов, полагают начало искусству или делу. Нельзя узнать конца (цели) искусства, не зная его начала, как, не зная конца и цели, нельзя понять значения искусства. Подъем, востание, вертикальное положение – вот естественное начало искусства, и это начало указывает на цель и значение искусства. Вместе с последним вздохом отцов поднялся взор сынов к небу, как лону отцов, не мертвых, а живых, потому что только живое и могли они понять. Зарывая или даже сжигая умершего отца, сын как существо живое тотчас же восстановлял отца в виде изображения, как живого, в вертикальном, стоячем положении, а не в лежачем, как мертвого. С соединением сынов соединились и памятники отцов: создался храм, который и есть изображение земли, отдающей своих мертвецов. Простирая над соединенными памятниками отцов кожу, покров, шатер, как небо, сыны и на этом покрове писали образы отцов. И стал храм изображением не земли лишь, отдающей своих мертвецов, но и неба, населяемого воскрешенными поколениями; храм стал изображением кажущегося мироздания (согласно птоломеевской системе), подобием, а не действительностью. Какое же искусство, какой храм, как соединение всех искусств, должен соответствовать копер-никанскому мировоззрению, отвергающему кажущееся мироздание и требующему действительного мироздания, населенного не подобиями лишь умерших, а самими умершими? Только искусство может превратить коперниканскую гипотезу в несомненную, обязательную истину.
Храм со своей художественной стороны выражает докоперниканское мировоззрение, с технической же стороны представляет приложение земной механики, которая сводится к одному – удержанию тел от падения. Если архитектура подобия есть противодействие падению, поднятие, поддержание падающего, некоторое торжество над падением тела, то действительная архитектура будет противодействием падению самой Земли и целой системы, противодействием падению всех мировых систем. Ибо Земля – как и все небесные тела, – говоря строго, не держится, а постоянно падает, совершая одно, два или даже очень большое число круговых оборотов. Само Солнце, испуская лучи, уплотняется, охлаждается, и, следовательно, его падение усиливается.
Отношение опор к поддерживаемым ими частям или способ, коим производится противодействие падению тел, дает все разнообразие стилей и служит характеристикою их. Новый стиль, т.е. противодействие падению самой Земли и вообще небесных тел, может произойти из приложения небесной механики к естественной, небесной архитектуре; насколько познание падения тел служит строительному искусству, настолько же небесная механика, небесная физика и т.д. будут служить к обращению бессознательных движений светил в сознательные; будут служить к управлению ими, к постройке из них прочного здания, храма миров, неудержимо, без видимых опор, в безграничном пространстве движущихся; будут служить освобождению всех миров от уз тяготения, от слепой силы притяжения, делая их орудием выражения взаимных чувств, взаимной любви всех поколений человеческого рода. Очевидно, в этом случае разрыв между архитектурой или храмом, соединяющим в себе все искусства, и астрономией, соединяющей в себе все науки, будет уничтожен и между ними установится полное единство: архитектура, соединяющая в себе все искусства, станет опытным доказательством астрономии, соединяющей в себе все науки. Это уже не искусственный храм, не изображение только небесного свода; это и не хоровод, подобие движению Солнца; это – само небо, само движение Земли, управляемое мыслью и чувством стройного хора всего человеческого рода. Какое единство проникало бы всю историю человеческого рода от первого взора, брошенного на небо воставшим существом, устроившего по подобию небесного движения свой земной хор, если бы этот хор превратился затем из мнимого солнцевода в действительный земновод!
Храм вообще есть подобие Вселенной, значительно низшее своего оригинала в действительности, но несравненно высшее его по смыслу. Смысл же храма заключается в том, что он есть проект Вселенной, в которой оживлено все то, что в оригинале умерщвлено, и где все оживленное стало сознанием и управлением существа, бывшего слепым. Храм, даже самый громадный, мал до ничтожества сравнительно со Вселенной, им изображаемой; но в этом ничтожестве по величине смертное, ограниченное существо силилось изобразить и даль, и глубь, и ширь, и высь необъятную, безграничную, чтобы водворить в нем все, что в природе слепой являлось живым лишь на мгновение. Это эфемерное по времени существование человек превратил в обыденное (однодневное) по скорости восстановления*42, ибо, чем короче срок восстановления, тем оно содержательнее и шире по объему, вмещая в себе все прошлое. Необъятность, и мощь, и жизнь изощрялся сын человеческий изобразить в храме пластично, живописно, иконописно; прибегал к звуку, к слову, к письму, и, наконец, в самом себе, в живущих изображал умерших; и таким образом совокупная молитва превращалась в храмовую службу.
Воскресение Христа было обыденным (однодневным) сооружением Им Самим храма Своего пречистого тела, а обыденное строение храма, воздвигаемого общим трудом, безденежно, для бескровной жертвы, – храма, подобного, следовательно, очищенному от крови и денег храму Иерусалимскому (Иоан. 2, 16), можно и должно назвать трехдневным, причем только и раскрывается глубокий, всехристианский смысл этих обыденных и в то же время обетных храмов. Храм будет трехдневным, если постройка его, вызванная каким-либо бедствием, мором, страданиями, начнется в пяток*43 вечера и, превратив покой субботы в труд, подобно Сыну человеческому, исцелившему расслабленного и воскресившему Лазаря в день покоя, окончится освящением храма в полночь дня воскресения, т.е. при начале дня избавления от страдания и смерти*44. Такого значения, такого смысла дням строения не придавали, по-видимому, сами строители обыденных храмов, хотя именно такой смысл и значение в них заключаются; здесь, можно сказать, – вся сущность христианства, которая состоит в том, что род человеческий, исполняя волю Отца отцов, отождествляясь с Нею, сам страждущий и умирающий, совокупным многоединым трудом, по образу Триединого, достигает, однако, бессмертия и святости.
Всеобщее воскрешение есть полная победа над пространством и временем. Переход «от земли к небесе» есть победа, торжество над пространством (или последовательное вездесущие). Переход от смерти к жизни, или одновременное сосуществование всего ряда времен (поколений), сосуществование последовательности, есть торжество над временем. Идеальность этих форм знания (пространства и времени) станет реальностью. Всеобщее воскрешение станет единством истории и астрономии или последовательности поколений в совокупности, полноте, цельности миров. Трансцендентальная (предопытная) эстетика пространства и времени станет нашим настоящим опытом или всеобщим делом.
 В плеяде отечественных философов В.С. Соловьев предстает фигурой монументальной и многоплановой. Он удостоился званий «русского Платона» и «русского Оригена»; в писаниях своих стремился сочетать наследие античности и духовный опыт Востока, святоотеческую традицию и западную, прежде всего немецкую идеалистическую, философию. Так что попытка втиснуть его в прокрустово ложе какого-нибудь отдельного, пусть и широкого, направления, пожалуй, покажется сомнительной. И все же вряд ли стоит отрицать, что могучее здание соловьевского творчества, вместившего в себя идею Софии, проповедь богочеловечества, философию «положительного всеединства» и апологию теократии, не может устоять без скрепляющего стержня главной идеи. Это хорошо понимали такие исследователи творчества Соловьева, как С. Булгаков, Е. Трубецкой, К. Мочульский, В. Зеньковский. Так вот эта опорная его идея и оказывается близкой установкам философов-космистов. Не говоря уже о том, что один из них – Н.Ф. Федоров прямо повлиял на духовное развитие молодого мыслителя. В начале 1882 г. 28-летний Соловьев читает его рукопись. В письме, отправленном Федорову, – такие строки: «Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению <...>. Я очень много имею Вам сказать. А пока скажу только одно, что со времени появления христианства Ваш «проект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я с своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным».
В плеяде отечественных философов В.С. Соловьев предстает фигурой монументальной и многоплановой. Он удостоился званий «русского Платона» и «русского Оригена»; в писаниях своих стремился сочетать наследие античности и духовный опыт Востока, святоотеческую традицию и западную, прежде всего немецкую идеалистическую, философию. Так что попытка втиснуть его в прокрустово ложе какого-нибудь отдельного, пусть и широкого, направления, пожалуй, покажется сомнительной. И все же вряд ли стоит отрицать, что могучее здание соловьевского творчества, вместившего в себя идею Софии, проповедь богочеловечества, философию «положительного всеединства» и апологию теократии, не может устоять без скрепляющего стержня главной идеи. Это хорошо понимали такие исследователи творчества Соловьева, как С. Булгаков, Е. Трубецкой, К. Мочульский, В. Зеньковский. Так вот эта опорная его идея и оказывается близкой установкам философов-космистов. Не говоря уже о том, что один из них – Н.Ф. Федоров прямо повлиял на духовное развитие молодого мыслителя. В начале 1882 г. 28-летний Соловьев читает его рукопись. В письме, отправленном Федорову, – такие строки: «Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению <...>. Я очень много имею Вам сказать. А пока скажу только одно, что со времени появления христианства Ваш «проект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я с своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным».
С этого момента краеугольным камнем его философии ложится мысль о возможности для человечества благого, истинно христианского дела, дела, что не ограничено социальными, национальными, государственными интересами, а касается «всех и вся», каждой конкретной личности и всей природы, всякой твари земной и небесной, всего огромного мирового хозяйства, которое человек по замыслу Божию и по благодати Его призван восстановить в прославленное состояние.
Впрочем, само личное и философское развитие Соловьева в своем роде подготовило его именно к такому восприятию идей Федорова. Скажем несколько слов о его биографии. Он родился 16 января 1853 г. в семье известного историка профессора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева, человека волевого, целеустремленного (свою жизнь он посвятил написанию грандиозного труда – «История России с древнейших времен» – и каждый год выпускал по тому) и глубоко, искренне верующего. По матери – принадлежал к древнему украинско-польскому роду и предком своим имел философа-странника Григория Саввича Сковороду (1722–1794), на которого, кстати, по словам современников и родных, походил характером и общим духовным складом. От матери же унаследовал поэтические и мистические черты, склонность к видениям и таинственным, фантастическим предчувствиям.
С детского возраста в нем было стремление к подвижничеству. Поразившись подвигам святых, он, едва достигнув восьми лет, подвергает себя испытаниям и лишениям. Да и потом, на протяжении всей жизни, жил как «птицы небесные, что не сеют, не жнут», не имея собственного дома, ночуя то в гостиницах, то у друзей; был вегетарианцем и вообще питался чем придется. Всегда строго постился. Но при этом, как свидетельствует его биограф В. Величко, боялся «машинального аскетизма» и вообще всякого внешнего благочестия. Тот аскетизм, который презирает тело, попирает его, был чужд Соловьеву. В ряде работ он утверждает принцип «истинного аскетизма», что стремится не к уничтожению телесности, а к установлению всецелой власти духа над плотью, над «бунтующей материей», преображает ее. В этом у него много общего с Федоровым.
Внутреннее же, религиозно-нравственное, мировоззренческое формирование Соловьева было мучительным. Уже с двенадцати лет, во время учебы в 5-й Московской гимназии, начинается разрушение детской веры, более эмоциональной, нежели сознательной. Как свидетельствует сам Владимир Сергеевич, за четыре года он пережил «все фазисы отрицательного движения европейской мысли за последние четыре века. От сомнения в необходимости религиозности внешней, от иконоборства, я перешел к рационализму, к неверию в чудо и в божественность Христа, стал деистом, потом пантеистом, потом атеистом и материалистом. На каждой из этих ступеней я останавливался с увлечением и фанатизмом». Это отрицание «духовных основ жизни» доходило порой до кощунства. Однажды, гуляя с приятелями на кладбище, Соловьев нарочно повалил могильный крест и запрыгал на нем. яростно доказывая, что ничегошеньки-то от этого и не произойдет. (Впрочем, в его кощунстве на самом деле было больше отчаяния и жажды уверовать, нежели дерзости и цинизма.) Но через это отрицание и обращение затем к «положительной науке» и к «отвлеченной философии» шел он именно к вере сознательной, такой, которая не боится знания, а утверждает его и сама утверждается им, и движет человеческий разум в поиске мирового смысла.
По мысли Соловьева, это обычный путь человека, «грядущего в мир». Только в большинстве случаев он, увы, не доходит до последней, завершающей фазы, затихает на первом этапе детски-наивной религиозности либо упирается в мрачный и неистовый нигилизм, а то уходит в бескрылое опытное знание, бессильное проникнуть во внутренний, сокровенный смысл мира, в область должного порядка вещей. И тогда, иронизирует Соловьев в одном из писем к своей кузине Е. Романовой, «смотрят в микроскопы, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу».
Поэтому главная цель молодого философа – примирить религиозную истину с философией и наукой, привести к живой, совершеннолетней, активной вере тех, кто запутался в тупиках отвлеченной мысли и одностороннего знания. Кстати, такое стремление он унаследовал от отца, который, по словам его внучатого племянника и тезки, тоже С.М. Соловьева, «в юности мечтал создать синтетическую философию христианства, примиряющую разум с верой». Но то, что у отца осталось лишь грезой юности, у сына утвердилось делом всей жизни.
Движимый этим стремлением, Владимир, поступив в 1869 г. на историко-филологический факультет Московского университета, на первом же курсе переводится на факультет физико-математический. Более всего его интересует «философская сторона естествознания». Он углубленно изучает морфологию растений и сравнительную анатомию. Впоследствии эти знания очень пригодятся мыслителю при выработке собственного понимания эволюции.
Проучившись на физико-математическом факультете неполных три года, он возвращается на историко-филологический факультет, сдаст экзамены на звание кандидата и... неожиданно поселяется в Сергиевом Посаде при Троице-Сергиевой лавре. Занимается в монастырской библиотеке, посещает лекции в Московской духовной академии. Теперь, после изучения науки и философии, ему, как сообщает он в письме к кузине, необходимо «поработать над теоретической стороной, над богословским вероучением». Друзья и родные обеспокоены: неужели Владимир решил пойти в монахи? Но нет, его путь другой. В том же письме – такие строки: «Монашество некогда имело свое высокое назначение, но теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его».
Плодом всех этих занятий явилась магистерская диссертация «Кризис западной философии. (Против позитивистов)», триумфально защищенная в 1874 г. в Петербургском университете. «Высшею целью и последним результатом умственного развития» Соловьев провозглашает осуществление «универсального синтеза науки, философии и религии», западного естествознания и логики с «полнотой содержания духовных созерцаний Востока». Только такой синтез, по мнению магистранта, выведет философию из рамок однобоко теоретического, отвлеченного познания, поставит ее на службу делу жизни. Правда, о самом «деле жизни» представление у молодого философа пока неопределенное. В платоновско-гегелевском духе намечается какой-то высший синтез, восстановление частных существ «как царства духов, объемлемых всеобщностью духа абсолютного». Конкретнее, ближе к самой жизни высказаться Соловьев пока не в состоянии, ибо, отрицая отвлеченность западной философии в содержательном плане, всецело остается в плену ее отвлеченного способа мышления.
Вероятно, для того, чтобы, провозгласив в теории анафему такому мышлению, самому вырваться из оков выработанного им языка, нужен был какой-то совершенно иной, сверхрациональный опыт. И он вскоре был дан – сначала в занятиях спиритизмом; новоиспеченный доцент по кафедре философии при Московском университете и блестящий лектор предается им на первых порах со скептицизмом, а потом все с большим увлечением. Затем – в библиотеке Британского музея в изучении мистических сочинений, в долгих медитациях над страницами Каббалы. И наконец - в видении Софии в египетской пустыне, куда сорвался он, услышав таинственный призыв. По глубокому замечанию одного из исследователей творчества Соловьева, «семя, воспринятое в глубинах мистического видения, из которого развивается мировоззрение Соловьева, – это идея Царствия Божия. Во всех составных частях мощного соловьевского синтеза, в теории познания и метафизике, этике и эстетике, философии истории и философии любви – все сводится в конечном счете к пути, по которому Премудрость Божия ведет падшее творение в отчий дом – в вечное Царство Христово». Этот богочеловеческий путь, совместное действие Божеского и человеческого начал, которое, собственно говоря, и составляет, по Соловьеву, смысл эволюции, впервые- еще смутно и несколько спутанно – очерчен в неоконченном сочинении «София», а затем – гораздо четче и полнокровнее – в «Чтениях о богочеловечестве», знаменитых лекциях 1878 г., на которые стекался весь Петербург.
Именно к этому времени относится первое, пока заочное, знакомство В.С. Соловьева с идеями Н.Ф. Федорова. В марте 1878 г. Ф.М. Достоевский, с которым Соловьев тогда особенно сблизился (предполагают даже, что в героях последнего романа писателя «Братья Карамазовы» – Алеше и Иване отразились некоторые черты молодого философа), читает ему письмо Н.П. Петерсона, ученика Федорова, с изложением учения «легендарного библиотекаря». Читает потому, что «нашел в его воззрении много сходного». В ответном письме Петерсону Федор Михайлович сообщает, что Соловьев «глубоко сочувствует мыслителю и почти то же самое хотел читать в следующую лекцию».
Действительно, в четырех последних лекциях «Чтений...» высказано такое понимание человека и его места в мироздании, которое в главных, существенных чертах своих близко федоровскому. Человек, по замыслу Божию, есть «посредник между Богом и материальным бытием», он – собиратель падшего творения, что пребывает в раздельности и розни, взаимной непроницаемости элементов, рабстве тлению, «устроитель и организатор Вселенной». И сам в процессе исторического и космического делания возрастает в «духе и истине», обретает бессмертие, всем человечеством образует единый соборный – неслиянный и нераздельный – организм – Софию.
Позднее, в третьей части книги «Россия и Вселенская церковь» (1888), а также в статье «Красота в природе» (1889) он обоснует активную роль человека в эволюции самим смыслом творения, которое есть не единовременный акт – ведь в таком случае органический мир должен быть совершенным, что далеко не так, -но «постепенный и упорный процесс» воплощения в материи духовного, божественного начала. Перед нами разворачивается вековая борьба этого начала с хаосом и бесформенностью за обладание материей, «душой мира», процесс воплощения красоты сначала в неорганическом мире (воде, камнях, минералах), а затем в растениях, животных – с неизбежными здесь муками, тупиками, «неоконченными набросками неудачных созданий» – и, наконец, в человеке, который есть венец космогонического процесса, ибо в нем создана уже – в потенции – совершенная форма для бытия духа. Эволюция вступает теперь в процесс исторический, начинается новый этап ее развития «в форме сознания и свободной деятельности».
Так соединяет В.С. Соловьев, подобно другим активно-эволюционным мыслителям, данные знания с истинами веры, естественнонаучное представление об эволюции с высочайшим христианским идеалом. Развитие мира для Соловьева, пользуясь выражением В. Величко, есть «осмысленный богочеловеческий процесс», и предполагает он взаимное действие человеческой активности и Божьей благодати, конечным результатом которого явится полное и совершенное соединение Бога с творением и творения с Богом, «положительное всеединство», или Царствие Божие.
Через два с половиной года, осенью 1881-го, состоялось личное знакомство Соловьева и Федорова. А в самом начале 1882 г. Владимир Сергеевич, по свидетельству Федорова, «читал самый проект воскрешения». Потрясенный раскрывшимся перед ним учением, он хочет участвовать в его проповеди. Немедленно отправляется в Петербург нести глаголы всеобщего воскрешения русскому студенчеству, а через месяц возвращается обескураженный. Хотя его лекции и заинтересовали публику, особенно последняя – «Жизненный смысл христианства», – прочитанная 25 февраля и затем, по просьбе слушателей, литографированная одним из студентов, но триумфа, всеобщего чудесного обращения не получилось. Психологически это было совершенно понятно: слишком необычной для традиционного восприятия была главная федоровская идея – подражать Христу не в унижении, не в претерпении мучений, издевательств и крестной смерти, а в делах его, в главном его Деле – воскрешении умерших, восстановлении и собственного тела-храма. Но была здесь вина и самого лектора: Соловьев перевел конкретный проект, по выражению Николая Федоровича, «на философско-мистический язык». А кроме того, охарактеризовав в федоровском духе сущность природного порядка бытия, основанного на розни, вытеснении и смерти, и остановившись на должном, завершительном состоянии, соборном единстве мироздания, когда «Бог будет всяческая во всем», он предельно общо и туманно высказался о самом главном: о том, какой же путь пролегает от мира, «который во зле лежит», к благобытию Царствия Божия и какова роль человека на этом пути. Безусловно, на фоне точных формулировок и ясных указаний «Философии общего дела» проясняется смысл многих «туманных» высказываний Соловьева. Но слушатели, не имевшие перед собой, так сказать, «расшифрованного текста», восприняли идею в самом общем, почти мистическом смысле.
То же самое произошло спустя десять лет, в 1891 г., на заседании Психологического общества, где Соловьевым был прочитан реферат «Об упадке средневекового миросозерцания». Хотя, по уговору с Федоровым, доклад и должен был стать публичной проповедью учения «общего дела», призывом к регуляции природы, к борьбе с голодом, болезнями, смертью, но Соловьев не пожелал обнаружить и высказать деловое понимание христианства, ограничившись критикой исторической церкви и неясными намеками типа: «Если мы не по имени только, а на деле христиане, то от нас зависит, чтобы воскрес Христос в своем человечестве». В прениях же старался уходить от вопросов, касающихся конкретного содержания этого истинно христианского дела. Увы он, который в юности был готов терпеть оплевательства и заушения, не боялся даже клейма юродства за свои действия и убеждения, теперь «по причинам публичного свойства», «опасаясь больше всего быть смешным» (Федоров), стыдливо замазывает ту главную, спасительную идею, в которую сам в глубине сердца горячо и искренне верует. Федоров хорошо понял и в одной фразе определил обнаружившуюся здесь характерную черту Соловьева: «Соловьев во всю жизнь хотел быть сверхчеловеком: то – медиумом, то – каббалистом, то наконец – пророком <...>. Как и Толстой, он решительно не понимал безусловной скромности: не выдвигаться, не выставляться, стушевываться... ».
И все же, как бы ни складывались затем личные взаимоотношения Федорова и Соловьева – а они были непростыми, и в конце концов пути двух мыслителей разошлись, – дальнейшее философское и духовное развитие Соловьева уже неотделимо от воспрршятого им учения о воскрешении. Несмотря на всю теоретичность и метафоризм, свойственные Соловьеву в транскрипции этого учения, сам он неустанно стремится отыскать какие-то реальные средства его воплощения. Не случайно же с юности задавался он «самым важным вопросом» – «где средства?», в ранних работах протестовал против философии, оторванной от дела жизни, а в письмах Федорову планировал обсудить «первые практические шаги к осуществлению» проекта. Можно утверждать, что два последующих периода творчества Соловьева – теократический (с 1881 по 1889 г.) и этико-эстетический (с 1889 по 1900 г.) – были своего рода попыткой отыскания средств, с помощью которых человечество в истории «подготовит условия» для полноты воплощения в нем Божества. В брошюре «Духовные основы жизни» (1882–1884) он утверждает, что долг христианина не только личное спасение, но и общественное дело. Полнота содержания этого общественного дела раскрывается в той самой «федоровской» лекции «Жизненный смысл христианства», которую мыслитель помещает в данной брошюре под заголовком «О христианстве».
Это «всеобщее дело» предполагается совершить человечеству под водительством Церкви. Поскольку в ней заложена основа сверхприродного, совершенного единства, основа духовного, бессмертного человечества, то именно она призвана осуществлять «богочеловеческое домостроительство для спасения всего мира». В работах «Великий спор и христианская политика» (1883), «История и будущность теократии» (1885–1887), «Россия и Вселенская церковь» (1888) Соловьев развивает проект соединения церквей во имя установления единой вселенской Церкви, «свободной теократии» как орудия богочеловеческого дела.
По Вл. Соловьеву, соединение церквей и установление теократии (боговластия) в высшем своем смысле есть не что иное, как конечное завершительное соединение твари и Творца, предполагающее уже преображенное состояние мира. Но вот средства осуществления этого, по сути дела Царствия Божия, – одно лишь внешнее церковное единство в форме союза папы и русского императора – увы, не вмещали всей полноты и высоты поставленной цели. Это-то и явилось наиболее ущербным и уязвимым моментом построений Соловьева, и мыслитель вскоре сам отказывается от своей теократической утопии.
С 1889 г. Соловьев занят преимущественно проблемами этики и эстетики. В 1894 г. выходит его книга «Оправдание добра». Здесь проповедует он необходимость соединить личный нравственный подвиг и служение общественное, подчиниться единой христианской нравственности, что своей целью ставит преображение человеческого естества и всей природы, поскольку «процесс всемирного совершенствования, будучи богочеловеческим, необходимо есть и богоматериальный». Теперь уже не одним внешним объединением, но и необходимым внутренним деланием, а также трудом «собирания Вселенной» вырабатывает человечество условия для реального соединения с Богом, для Царствия Божия.
Искусство – одно из средств этого делания. Сначала – в представлении, в художественной фантазии, а в перспективе – в реальности оно преображает плоть мира, пресуществляет «нашу действительную жизнь», творит в ней истинную красоту. Ведь последняя есть не что иное, как «духовная телесность», в ней дух сочетается с материей наиболее совершенным образом, торжествует над хаосом, бесформенностью, небытием. Статьи «Красота в природе» (1889) и «Общий смысл искусства» (1890) близки эстетике Федорова, одному из главных ее постулатов: «Наша жизнь есть акт эстетического творчества».
Одним из путей к обо́жению служит и истинный брак, который, будучи уже некоторым соединением двух в одно, призван вести любящих к реальному восполнению друг друга до целостного человека, «раскрытию в любимом образа Божия», утверждению его в вечности.
Пожалуй, именно Соловьева третьего периода в наибольшей степени имел в виду Александр Блок, когда писал о новом направлении духа, каком-то третьем пути, что забрезжил в его философии. Зная тот заповедный источник, из которого черпал свое вдохновение мыслитель, скажем, что путь этот – путь космического богочеловеческого дела, совокупной творческой работы спасения, «восстановления всяческих», обретения вечной жизни.
И какой же поразительный контраст к светлому сему потоку явили последние годы жизни! Словно что-то сломалось внутри, словно вдруг разом упал он в тот хаос и «томление духа», что так мучили его на заре жизни. Он сомневается в самой основе своей веры – в богочеловечестве, в возможности благого творчества в истории. Усугубляется чувство греховности, растет ужас пред «князем мира сего». Уже больной, мучимый видениями, в каком-то мраке отчаяния он пишет «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1899–1900). Перед нами – гибель Европы под натиском монгольских полчищ, как саранча налетевших с Востока. И потом, на ее руинах – зловещая фигура антихриста. Крах, конец всемирной истории и персонификация мирового зла – и это он, апостол света, писавший в юности: «Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта»! Как измену самому себе, основному пафосу своей мысли, как эсхатологизм пассивный, нетворческий, расценил Н. Бердяев в «Русской идее» это «последнее слово» В. Соловьева.
Вскоре после опубликования «Трех разговоров» В.С. Соловьев умирает в селе Узкое, имении своих друзей братьев-философов С.Н. и Е.Н. Трубецких. Могила его – в Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом с отцом.
Порывы стихийных сил или стихийного бессилия, сами по себе чуждые красоты, порождают ее уже в неорганическом мире, становясь волей или неволей, в различных аспектах природы, материалом для более или менее ясного и полного выражения всемирной идеи или положительного всеединства.
Зиждительное начало Вселенной (Логос), отражающееся от вещества снаружи, как свет, и изнутри зажигающее жизнь в веществе, образует в виде животных и растительных организмов определенные и устойчивые формы жизни, которые, восходя постепенно все к большему и большему совершенству, могут наконец послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и неделимой идеи.
Реальная подкладка органических форм, материал биологического процесса берется весь в мире вещественном: это – добыча, завоеванная зиждительным умом у хаотической материи. Иными словами, органические тела суть лишь превращения, или трансформации, неорганического вещества, в таком же, впрочем, смысле, в каком Исаакиевский собор есть трансформация гранита, а Венера Милосская – трансформация мрамора. Признавать в живых телах особую, исключительно им присущую жизненную силу – это все равно что приписывать храму особую храмовую силу, а статуе – особенную ваятельную силу. Явно, что с точки зрения реального состава в органических телах нет совсем ничего, кроме физических и химических элементов, точно так же как с этой точки зрения в храме нет ничего, кроме камня, золота и прочих материалов, а в мраморной статуе -- ничего, кроме мрамора. А с формальной стороны в строении живых организмов мы имеем новую, сравнительно высшую степень проявления того же зиждительного начала, которое уже действовало и в мире неорганическом, – новый, относительно более совершенный способ воплощения той же идеи, которая уже находила себе выражения и в неодушевленной природе, хотя более поверхностные и менее определенные. Тот же самый образ всеединства, который всемирный художник крупными и простыми чертами набросал на звездном небе или в многоцветной радуге, – его же он подробно и тонко разрисовывает в растительных и животных телах.
В мире органических существ различаются нами три главные стороны: 1) внутренняя сущность, или prima materia*46, жизни, стремление или хотение жить, т.е. питаться и размножаться – голод и любовь (более страдательные в растениях, более деятельные в животных); 2) образ этой жизни, т.е. те морфологические и физиологические условия, которыми определяются питание и размножение (а в связи с ними и прочие, второстепенные функции) каждого органического вида, и, наконец, 3) биологическая цель – не в смысле внешней телеологии*47, а с точки зрения сравнительной анатомии, определяющей относительно целого органического мира место и значение тех частных форм, которые в каждом виде поддерживаются питанием и увековечиваются размножением. Самая биологическая цель при этом является двоякою: с одной стороны, органические виды суть ступени (частью преходящие, частью пребывающие) общего биологического процесса, который от водяной плесени доходит до создания человеческого тела, а с другой стороны, эти виды можно рассматривать как члены всемирного организма, имеющие самостоятельное значение в жизни целого.
Общая картина органического мира представляет две основные черты, без равномерного признания которых невозможно никакое понимание мировой жизни, никакая философия природы, а следовательно, и никакая эстетика природы. Во-первых, несомненно, что органический мир не есть произведение так называемого непосредственного творчества или что он не может быть прямо выведен из одного абсолютного творческого начала, ибо в таком случае он должен бы был представлять безусловное совершенство, безмятежность и гармонию не только в целом, но и во всех своих частях. Между тем действительность далеко не соответствует такому оптимистическому представлению. В этом случае некоторые факты и открытия положительной науки имеют решающее значение. Рассматривая земной органический мир, особенно в его палеонтологической истории, достаточно известной в наши дни, мы находим здесь резко очерченную картину трудного и сложного процесса, определяемого борьбою разнородных начал, которая лишь после долгих усилий разрешается некоторым устойчивым равновесием. Это всего менее похоже на безусловно совершенное создание, непосредственно исходящее из творческой воли одного божественного художника. Наша биологическая история есть замедленное и болезненное рождение. Мы видим здесь явные знаки внутреннего противоборства, толчки и судорожные сотрясения, слепые движения ощупью; неоконченные наброски неудачных созданий – сколько чудовищных порождений и выкидышей! Все эти palaeozoa*48, эти допотопные чудища: мегатерии, плезиозавры, ихтиозавры, птеродактили – могут ли они быть совершенным и непосредственным творением Божьим? Если бы они удовлетворяли своему назначению и заслуживали одобрение Творца, как могло бы случиться, что они окончательно исчезли с нашей Земли, уступив место формам более уравновешенным и гармоническим.
Тем не менее хотя животворный деятель мирового процесса и бросает без сожаления свои неудобные пробы, однако – и в этом вторая основная черта органической природы – он дорожит не одною только целью процесса, а каждою из его бесчисленных ступеней, лишь бы эта ступень в свою меру и по-своему хорошо воплощала идею жизни. Отвоевывая шаг за шагом у хаотических стихий материал для своих органических созданий, космический ум бережет каждую свою добычу и покидает только то, в чем его победа была мнимою, на что безмерность хаоса наложила свою неизгладимую печать <...>
VII
В растительном царстве светлое эфирное начало уже не только озаряет косное вещество и не только возбуждает в нем порывистое преходящее движение (как в явлениях стихийной красоты), но и внутренно движет его, поднимает его изнутри, постоянным образом преодолевая силу тяжести. В растении свет и материя вступают в прочное, неразрывное сочетание, впервые проникают друг друга, становятся одною неделимою жизнью, и эта жизнь поднимает кверху земную стихию, заставляет ее тянуться к небу и солнцу. Между косностью минералов и произвольным движением животных это незаметное внутреннее движение вверх, или рост, составляет характеризующее свойство растений, которые от него имеют и свое название. Поскольку здесь светлая форма и темное вещество впервые органически нераздельно сливаются в одно целое, растение есть первое действительное и живое воплощение небесного начала на Земле, первое действительное преображение земной стихии. Два космогонические начала, которые в явлениях неорганического мира лишь поверхностно соприкасаются и извне возбуждают друг друга, здесь действительно соединяются и порождают одну неделимо-двойственную небесно-земную сущность растений.
В растительном царстве жизнь выражается преимущественно в объективном направлении в произведении прекрасных органических форм. В этом первом живом порождении небесных и земных сил внутренняя жизнь еще слабо обособилась: это есть безмолвно преображенная и тихо приподнявшаяся к небу Земля. Материальное начало, возведенное на новую степень бытия, на степень живого существа, не успело еще развить соответственной внутренней интенсивности, оно как бы замерло в общем чувстве своего просветления. Из двух неразделенных, но тем не менее различных сторон органической жизни в растительном мире решительно преобладают стороны организации над стороною жизни. Растение хотя и живет, но оно есть более организованное тело, нежели живое существо: в нем видимые формы значительнее внутренних состояний. Эти последние существуют, но в слабой степени – душа растений, как уже давно замечено, есть грезящая душа. Поэтому и главный способ для выражения внутренних субъективных состояний – голос – вполне отсутствует у всех растений; зато красотою видимых форм они наделены гораздо равномернее, нежели животные, и, вообще говоря, превосходят их в этом отношении. Для растений зрительная красота есть настоящая достигнутая цель; поэтому органы размножения (цветы), которыми в наиболее значительной части растительного царства увековечивается данный вид, представляют вместе с тем и наиболынсе развитие растительной красоты в ее специфическом характере: наивной, спокойной, дремлющей.
Так как в растительном мире главное дело не в содержании внутреннем, не в интенсивности и полноте субъективной жизни, а в законченном внешнем выражении хотя бы и простого сравнительно содержания, то естественное различие между высшими и низшими растениями определяется соответственно степени их видимого совершенства или красоты, т.е. эстетический критерий совпадает здесь, вообще говоря, с естественнонаучным, чего, как сейчас увидим, вовсе не замечается в царстве животных. Два главные отдела растительного мира характеризуются присутствием или отсутствием цветка, т.е. того сложного органа, в котором преимущественно сосредоточивается растительная красота. Снабженные цветами и потому, вообще говоря, более красивые растения составляют высший отдел явнобрачных, а лишенные цветов и в общем не отличающиеся красотою растения принадлежат к низшему отделу тайнобрачных. И между этими последними самые низшие по структуре: водоросли, мхи – суть и наименее красивые, тогда как сравнительно более сложные или высшие: папоротник». – обладают и большею степенью красоты. Совершенно не то видим мы у животных. Хотя они также разделяются на два главные отдела: низший – беспозвоночных – и высший – позвоночных животных, но тут уже никак нельзя сказать, чтобы высшие были вообще красивее низших; эстетический и зоологический критерии здесь уже вовсе не совпадают. К числу беспозвоночных, следовательно, к низшему из двух главных отделов животного царства относятся одни из самых красивых зоологических форм – бабочки, которые несомненно превосходят красотою бо́льшую часть высших животных. А между этими последними, т.е. в отделе позвоночных, степень зоологического развития, вообще говоря, вовсе не соответствует степени красоты. Самый низший из четырех классов – рыбы – весьма богат красивыми формами, тогда как в самом высшем – млекопитающих – видное место занимают такие неэстетические твари, как бегемоты, носороги, киты. Самые красивые и вместе с тем самые музыкальные позвоночные животные принадлежат к среднему классу – птиц, а не к высшему, да и в сем последнем (у млекопитающих) отряд, представляющий наивысшую степень зоологического развития, – четырерукие (обезьяны) – есть вместе с тем и самый безобразный. Очевидно, в животном царстве красота еще не есть достигнутая цель, органические формы существуют здесь не ради одного своего видимого совершенства, а служат также, и главным образом, как средство для развития наиболее интенсивных проявлений жизненности, пока наконец эти проявления не уравновешиваются и не входят в меру человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшею видимою формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе животной и растительной красоты. <...>
VIII
На каждой новой ступени мирового развития, с каждым новым существенным углублением и осложнением природного существования открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединой идеи в прекрасных формах, но еще только возможность: мы знаем, что усиленная степень природного бытия сама по себе еще не ручается за его красоту, что космогонический критерий не совпадает с эстетическим, а отчасти даже находится с ним в прямой противоположности. Оно и понятно: возведенная на высшую степень бытия и этим внутренне усиленная, стихийная основа Вселенной – слепая природная воля – получает зараз и способность к более полному и глубокому подчинению и идеальному началу космоса, которое в таком случае и воплощает в ней новую, более совершенную форму красоты, и вместе с тем в хаотической стихии на этой высшей степени бытия усиливается и противоположная способность сопротивления идеальному началу с возможностью притом осуществлять это сопротивление на более сложном и значительном материале. Красота живых (органических) существ выше, но вместе с тем и реже красоты неодушевленной природы; мы знаем, что и положительное безобразие начинается только там, где начинается жизнь. Пассивная жизнь растений представляет еще мало сопротивления идеальному началу, которое и воплощается здесь в красоте чистых и ясных, но малосодержательных форм. Окаменевшее в минеральном и дремлющее в растительном царстве хаотическое начало впервые пробуждается в душе и жизни животных к деятельному самоутверждению и противупоставляет свою внутреннюю ненасытность объективной идее совершенного организма. <...> и в общей палеонтологической истории развития целого животного царства, и в индивидуальной эмбриологической истории каждого животного организма ясно отпечатлелось упорное сопротивление оживотворенного хаоса высшим органическим формам, от века намеченным в уме всемирного художника, который для достижения прочных побед должен все более и более суживать поле битвы. И каждая новая победа его открывает возможность нового поражения: на каждой достигнутой высшей степени организации и красоты являются и более сильные уклонения, более глубокое безобразие как высшее потенцированное проявление того первоначального безобразия, которое лежит в основе и жизни, и всего космического бытия.
<...> Такую положительно безобразную форму, служащую в более или менее открытом виде основою всех животных организаций, мы находим в черве.
Форма червя, как уже было выше замечено, есть прямое выражение, обнаженное воплощение двух основных животных инстинктов – полового и питательного – во всей их безмерной ненасытности. Всего яснее это в тех внутренностных червях, которые питаются всем своим существом, всею поверхностью своего тела чрез эндосмос (всасывание) и затем не представляют никаких органов, кроме половых, а эти последние своим сильным развитием и сложным строением являют поразительный контраст с крайним упрощением всей остальной организации. <...> Основной тип червя на более высокой ступени организации явно сохраняется и у моллюсков. Не то видим мы у насекомых, у которых червеобразная основная форма (находящаяся, по новейшим научным мнениям, в генетическом сродстве с кольчатыми червями) в своем обнаженном безобразии сохраняется только на стадии личинки, а в развившемся животном прячется под более или менее красивыми окрыленными покровами.
Основной червь, у насекомых прикрытый снаружи, вбирается внутрь у позвоночных животных: их чрево есть тот же червь не только в этимологическом, но и в зоогеническом смысле. Этот вобранный внутрь червь у некоторых позвоночных животных, принадлежащих к классам рыб и земноводных, опять получает такое преобладание, что сообщает свою форму всему телу животного. Таковы в особенности змеи, которые изо всех позвоночных животных суть самые похожие на червя, а потому и самые отвратительные. Нет надобности распространяться о том, что это возвращение к червеобразной наружности связано у этих животных и с внутренним уподоблением червю, т.е. с новым потенцированным самоутверждением злой жизни в ее кровожадном и сладострастном инстинкте.
Преобладание слепой и безмерной животности над идеей организма, т.е. внутреннего и наружного равновесия жизненных элементов, – это преобладание материи над формой, наглядно выражаемое в типической фигуре червя, есть лишь главная, основная причина безобразия в животном царстве. К ней присоединяются еще две другие, также общего характера. Мы знаем, что бесформенность, или неустойчивость, формы сама по себе есть нечто безразличное в эстетическом смысле (напр., бесформенные и бесцветные облака). Но когда в животном царстве бесформенность является на таких его ступенях, которые уже предполагают более или менее сложную и устойчивую организацию, то такое возвращение к элементарной протоплазме, будучи в прямом противоречии с данной органическою идеей, становится источником положительного безобразия. Например, улитки и другие слизняки, кроме того, что они еще довольно ясно сохраняют безобразный тип червя, отвратительны также и по своей первобытной бесформенности и мягкотелости, совершенно не соответствующей их сравнительно сложной внутренней организации. Та же причина – преобладание бесформенной массы – делает некрасивыми и таких высших животных, как киты и тюлени. Впрочем, поскольку это зависит здесь от чрезмерного накопления жира, следовательно, от излишнего питания, наша вторая причина зоологического безобразия (возвратная бесформенность) совпадает с первою (неистовость животного инстинкта). Это вполне ясно в случае тех домашних животных, которые становятся бесформенными и безобразными вследствие искусственного откармливания. Третья причина безобразия в животном царстве, и именно у некоторых высших (позвоночных) животных (лягушки, обезьяны), состоит в том, что они, оставаясь вполне животными, похожи на человека и представляют как бы карикатуру на него. Здесь нельзя видеть только одно субъективное впечатление, ибо помимо наглядного сравнения с человеком у этих животных замечается действительное анатомическое предварение (антиципация) высшей формы, которой не соответствуют остающиеся черты низшей организации, и это-то несоответствие, или дисгармония, и составляет объективную причину их безобразия.
Под указанные три формальные причины или категории: 1) непомерное развитие материальной животности, 2) возвращение к бесформенности и 3) карикатурное предварение высшей формы – могут быть подведены все проявления животного безобразия в его бесчисленных конкретных видоизменениях и оттенках. Но и эти три причины в сущности могут быть сведены к одной, именно к сопротивлению, которое материальная основа жизни на разных ступенях зоогенического процесса оказывает организующей силе идеального космического началах... <...>
Х
<...> Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировою душою или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, творит в ней и чрез нее сложное и великолепное тело нашей Вселенной. Творение это есть процесс, имеющий две тесно между собою связанные цели, общую и особенную. Общая есть воплощение реальной идеи, т.е. света и жизни, в различных формах природной красоты; особенная же цель есть создание человека, т.е. той формы, которая вместе с наибольшею телесною красотою представляет и высшее внутреннее потенциирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире животных <...> общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так красота в искусстве относится к природной красоте.
Истинному бытию, или всеединой идее, противополагается в нашем мире вещественное бытие – то самое, что подавляет своим бессмысленным упорством и нашу любовь и не дает осуществиться ее смыслу. Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость: 1) непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из существования, так что все новое в среде вещества происходит на счет прежнего или в ущерб ему, и 2) непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества (два тела) не могут занимать зараз одного и того же места, т.е. одной и той же части пространства, а необходимо вытесняют друг друга. Таким образом, то, что лежит в основе нашего мира, есть бытие в состоянии распадения, бытие, раздробленное на исключающие друг друга части и моменты. Вот какую глубокую почву и какую широкую основу должны мы принять для того рокового разделения существ, в котором все бедствие и нашей личной жизни. Победить эту двойную непроницаемость тел и явлений, сделать внешнюю реальную среду сообразною внутреннему всеединству идеи – вот задача мирового процесса, столь же простая в общем понятии, сколько сложная и трудная в конкретном осуществлении.
Видимое преобладание материальной основы нашего мира и жизни так еще велико, что многие даже добросовестные, но несколько односторонние умы думают, что, кроме этого вещественного бытия в различных его видоизменениях, вообще ничего не существует. Однако, не говоря уже о том, что признание этого видимого мира за единственный есть произвольная гипотеза, в которую можно верить, но которой нельзя доказать, и не выходя из пределов этого мира, должно признать, что материализм все-таки не прав даже с фактической точки зрения. Фактически и в нашем видимом мире существует многое такое, что не есть только видоизменение вещественного бытия в его пространственной и временной непроницаемости, а есть даже прямое отрицание и упразднение этой самой непроницаемости. Таково, во-первых, всеобщее тяготение, в котором части вещественного мира не исключают друг друга, а, напротив, стремятся включить, вместить себя взаимно. Можно ради предвзятого принципа строить мнимо научные гипотезы одну на другой, но для разумного понимания никогда не удастся из определений инертного вещества объяснить факторы прямо противоположного свойства: никогда не удастся притяжение свести к протяжению, влечение вывести из непроницаемости и стремление понять как косность. А между тем без этих невещественных факторов невозможно было бы даже самое простое телесное бытие. Вещество само по себе – ведь это только неопределенная и бессвязная совокупность атомов, которым более великодушно, чем основательно, придают присущее им будто бы движение. Во всяком случае для определенного и постоянного соединения вещественных частиц в тела необходимо, чтобы их непроницаемость, или, что то же, абсолютная бессвязность, заменилась в большей или меньшей степени положительным взаимодействием между ними. Таким образом, и вся наша Вселенная, насколько она не есть хаос разрозненных атомов, а единое и связное целое, предполагает, сверх своего дробного материала, еще форму единства (а также деятельную силу, покоряющую этому единству противные ему элементы). Единство вещественного мира не есть вещественное единство – такого вообще быть не может, это contradictio in ajecto*50. Образованное противувещественным (а с точки зрения материализма, значит, противуестественным) законом тяготения, всемирное тело есть целость реально-идеальная, психофизическая, или прямо (согласно мысли Ньютона о sensorum Dei*51) оно есть тело мистическое.
Сверх силы всемирного тяготения идеальное всеединство осуществляется духовно-телесным образом в мировом теле посредством света и других сродных явлений (электричество, магнетизм, теплота), которых характер находится в таком явном контрасте со свойствами непроницаемого и косного вещества, что и материалистическая наука принуждена очевидностью признать здесь особого рода полувещественную субстанцию, которую она называет эфиром. Это есть материя невесомая, всепроницаемая и всепроницающая, – одним словом, вещество невещественное.
Этими воплощениями всеединой идеи – тяготением и эфиром – держится наш действительный мир, а вещество само по себе, т.е. мертвая совокупность косных и непроницаемых атомов, только мыслится отвлекающим рассудком, но не наблюдается и не открывается ни в какой действительности. Мы не знаем такого момента, когда бы материальному хаосу принадлежала настоящая реальность, а космическая идея была бы бесплотною и немощною тенью; мы только предполагаем такой момент как точку отправления мирового процесса в пределах нашей видимой Вселенной.
Уже и в природном мире идее принадлежит все, но истинная ее сущность требует, чтобы не только ей принадлежало все, все в нее включалось или ею обнималось, но чтобы и она сама принадлежала всему, чтобы все, т.е. все частные и индивидуальные существа, а следовательно, и каждое из них, действительно обладали идеальным всеединством, включали его в себя. Совершенное всеединство, по самом) понятию своему, требует полного равновесия, равноценности и равноправности между единым и всем, между целым и частями, между общим и единичным. Полнота идеи требует, чтобы наибольшее единство целого осуществлялось в наибольшей самостоятельности и свободе частных и единичных элементов – в них самих, через них и для них. В этом направлении космический процесс доходит до создания животной индивидуальности, для которой единство идеи существует в образе рода и ощущается с полною силой в момент полового влечения, когда внутреннее единство или общность с другим (со «всем») конкретно воплощается в отношении к единичной особи другого пола, представляющей собою это дополнительное «все» – в одном. Сама индивидуальная жизнь животного организма уже содержит в себе некоторое, хотя ограниченное, подобие всеединства, поскольку здесь осуществляется полная солидарность и взаимность всех частных органов и элементов в единстве живого тела. Но как эта органическая солидарность в животном не переходит за пределы его телесного состава, так и для него образ восполняющего «другого» всецело ограничен таким же единичным телом с возможностью только материального, частичного соединения; а потому сверхвременна́я бесконечность, или вечность идеи, действующая в жизненной творческой силе любви, принимает здесь дурную прямолинейную форму беспредельного размножения, т.е. повторения одного и того же организма в однообразной смене единичных временных существований.
В человеческой жизни прямая линия родового размножения хотя и сохраняется в основе, но благодаря развитию .сознания и сознательного общения она заворачивается историческим процессом все в более и более обширные круги социальных и культурных организмов. Эти социальные организмы производятся тою же жизненною творческою силою любви, которая порождает и организмы физические. Эта сила непосредственно создает семью, а семья есть образующий элемент всякого общества. Несмотря на эту генетическую связь, отношение человеческой индивидуальности к обществу – существенно иное, нежели отношение животной индивидуальности к роду: человек не есть преходящий экземпляр общества. Единство социального организма действительно сосуществует с каждым из его индивидуальных членов, имеет бытие не только в нем и чрез него, но и для него, находится с ним в определенной связи и соотношении: общественная и индивидуальная жизнь со всех сторон взаимно проникают друг друга. Следовательно, мы имеем здесь гораздо более совершенный образ воплощения всеединой идеи, нежели в организме физическом. Вместе с тем здесь начинается извнутри (из сознания) процесс интеграции во времени (или против времени). Несмотря на продолжающуюся и в человечестве смену поколений, есть уже начатки увековечивания индивидуальности в религии предков – этой основе всякой культуры, в предании – памяти общества, в искусстве, наконец, в исторической науке. Несовершенный, зачаточный характер такого увековечения соответствует несовершенству самой человеческой индивидуальности и самого общества. Но прогресс несомненен, и окончательная задача становится яснее и ближе.
IV
Если корень ложного существования состоит в непроницаемости, т.е. во взаимном исключении существ друг другом, то истинная жизнь есть то, чтобы жить в другом, как в себе, или находить в другом положительное и безусловное восполнение своего существа. Основанием и типом этой истинной жизни остается и всегда останется любовь половая, или супружеская. Но ее собственное осуществление невозможно, как мы видели, без соответствующего преобразования всей внешней среды, т.е. интеграция жизни индивидуальной необходимо требует такой же интеграции в сферах жизни общественной и всемирной. Определенное различие, или раздельность, жизненных сфер, как индивидуальных, так и собирательных, никогда не будет и не должно быть упразднено, потому что такое всеобщее слияние привело бы к безразличию и к пустоте, а не к полноте бытия. Истинное соединение предполагает истинную раздельность соединяемых, т.е. такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга, находя каждый в другом полноту собственной жизни. Как в любви индивидуальной два различные, но равноправные и равноценные существа служат один другому не отрицательною границей, а положительным восполнением, точно то же должно быть и во всех сферах жизни собирательной; всякий социальный организм должен быть для каждого своего члена не внешнею границей его деятельности, а положительною опорой и восполнением: как для половой любви (в сфере личной жизни) единичное «другое» есть вместе с тем все, так с своей стороны социальное все, в силу положительной солидарности всех своих элементов, должно для каждого из них являться как действительное единство, как бы другое, восполняющее его (в новой, более широкой сфере) живое существо.
Если отношения индивидуальных членов общества друг к другу должны быть братские (и сыновние – по отношению к прошедшим поколениям и их социальным представителям), то связь их с целыми общественными сферами – местными, национальными и, наконец, со вселенскою – должна быть еще более внутреннею, всестороннею и значительною. Эта связь активного человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединою идеей должна быть живым сизигическим46 отношением. Не подчиняться своей общественной сфере и не господствовать над нею, а быть с нею в любовном взаимодействии, служить для нее деятельным, оплодотворяющим началом движения и находить в ней полноту жизненных условий и возможностей – таково отношение истинной человеческой индивидуальности не только к своей ближайшей социальной среде, к своему народу, но и ко всему человечеству. В Библии города, страны, народ Израильский, а затем и все возрожденное человечество или вселенская Церковь представляются в образе женских индивидуальностей, и это не есть простая метафора. Из того, что образ единства социальных тел не ощутителен для наших внешних чувств, никак не следует, чтоб его вовсе не существовало: ведь и наш собственный телесный образ совсем неощутителен и неведом для отдельной мозговой клеточки или для кровяного шарика; и если мы как индивидуальность, способная к полноте бытия, отличаемся от этих элементарных индивидуальностей не только большею ясностью и широтою разумного сознания, ной большею силой творческого воображения, то я не вижу надобности отказываться от этого преимущества. Как бы то ни было, с образом или без образа, требуется прежде всего, чтобы мы относились к социальной и всемирной среде как к действительному живому существу, с которым мы, никогда не сливаясь до безразличия, находимся в самом тесном и полном взаимодействии. Такое распространение сизигического отношения на сферы собирательного и всеобщего бытия совершенствует самую индивидуальность, сообщая ей единство и полноту жизненного содержания, и тем самым возвышает и увековечивает основную индивидуальную форму любви.
Несомненно, что исторический процесс совершается в этом направлении, постепенно разрушая ложные или недостаточные формы человеческих союзов (патриархальные, деспотические, односторонне индивидуалистические) и вместе с тем все более и более приближаясь не только к объединению всего человечества, как солидарного целого, но и к установлению истинного сизигического образа этого всечеловеческого единства. По мере того, как всеединая идея действительно осуществляется чрез укрепление и усовершенствование своих индивидуально-человеческих элементов, необходимо ослабевают и сглаживаются формы ложного разделения, или непроницаемости существ в пространстве и времени. Но для полного их упразднения и для окончательного увековечения всех индивидуальностей, не только настоящих, но и прошедших, нужно, чтобы процесс интеграции перешел за пределы жизни социальной или собственно человеческой и включил в себя сферу космическую, из которой он вышел. В устроении физического мира (космический процесс) божественная идея только снаружи облекла царство материи и смерти покровом природной красоты: чрез человечество, чрез действие его универсально-разумного сознания она должна войти в это царство извнутри, чтобы оживотворить природу и увековечить ее красоту. В этом смысле необходимо изменить отношение человека к природе. И с нею он должен установить то сизигическое единство, которым определяется его истинная жизнь в личной и общественной сферах.
V
Природа до сих пор была или всевластною, деспотическою матерью младенчествующего человечества, или чужою ему рабою, вещью. В эту вторую эпоху одни только поэты сохраняли еще и поддерживали хотя безотчетное и робкое чувство любви к природе как к равноправному существу, имеющему или могущему иметь жизнь в себе. Истинные поэты всегда оставались пророками всемирного восстановления жизни и красоты <...>
Установление истинного любовного, или сизигического, отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде – эта цель сама по себе ясна. Нельзя сказать того же о путях ее достижения для отдельного человека. Не вдаваясь в преждевременные, а потому сомнительные и неудобные подробности, можно, основываясь на твердых аналогиях космического и исторического опыта, с уверенностью утверждать, что всякая сознательная действительность человеческая, определяемая идеек) всемирной сизигии и имеющая целью воплотить всеединый идеал в той или другой сфере, тем самым действительно производит или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальною средою, одухотворяют ее и воплощают в ней те или другие образы всеединства – живые и вечные подобия абсолютной человечности. Сила же этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращение или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.
Связавши в идее всемирной сизигии (индивидуальную половую) любовь с истинною сущностью всеобщей жизни, я исполнил свою прямую задачу – определить смысл любви, так как под смыслом какого-нибудь предмета разумеется именно его внутренняя связь со всеобщею истиной. <...>
Первая решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними – между живым духом и мертвым веществом – образует, в сущности, всю историю мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа до Воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные, только половинные, и после каждой из них врагу удавалось под новыми формами торжествующей, по-видимому, жизни утвердить и упрочить свое действительное владычество. Какая великая, по-видимому, была победа жизни, когда среди косного неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ, первичные зачатки растительного и животного царства. Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм, превращает механические процессы в послушные средства для органических целей. И притом какое огромное и всевозрастающее богатство форм, какая замысловатость и смелость целесообразных построений от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием: она реалистка; прекрасные образы и символы ее не пленяют, предчувствия и пророчества не останавливают. Она знает, что красота природы – только пестрый, яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман! Она кажется бессмертною для внешнего взгляда, со стороны, для наблюдателя, принимающего новую мгновенную жизнь за продолжение прежней. Говорят об умирающей и вечно возрождающейся природе. Какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, – не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертных жизней ни в каком случае не выйдет одна бессмертная.
Жизнь природы есть сделка между смертью и бессмертием. Смерть берет себе всех живущих, все индивидуальности и уступает бессмертию только общие формы жизни: это единичное растение или животное обречено неизбежно погибнуть после нескольких мгновений; но эта форма растительности или животного, этот вид или род организмов остается. Божья заповедь ко всем живым существам: плодитесь и размножайтесь не для того, чтобы расширить, упрочить и увековечить свою жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было кому сменить и заменить вас, наполняйте землю своими смертными останками, будьте только мостом для следующего поколения, которое, в свою очередь, станет лишь мостом для своих преемников, и т.д. Вместо жизни и бессмертия – этот нескончаемый ряд мостов. Правда, они строятся недаром, правда, по этому мертвому пути идет творческий дух к предустановленной ему цели. Но почему он должен непременно идти по забитым гробам, и если его цель добрая, то зачем это дурное средство: постоянно возобновляющийся обман смертной жизни?
Нет! Эта кажущаяся жизнь есть только символ и зачаток истинной жизни; организация видимой природы не есть решительная победа живого духа над смертью, а только его приготовление для настоящих действий. Начало этих действий обусловлено появлением разумного существа над царством животным. Благодаря способности отчетливого, обобщающегося мышления в человеке жизнь перестает быть только целесообразным процессом родовых сил и становится, сверх того, целесообразною деятельностью сил индивидуальных:
|
Все, что колеблется в явлении текучем, Вы закрепляйте помыслом могучим. |
Война между жизнью и смертью вступает в новый фазис с тех пор, как ведется существами не только живущими и умирающими, но, сверх того, мыслящими о жизни и смерти. В этих мыслях еще нет победы, но в них – необходимое оружие победы. Герои человеческой мысли, великие мудрецы Востока и Запада подготовляли победу. Но они не были победителями смерти: они умерли и не воскресли. Достаточно назвать только двух величайших. Учение Будды было, собственно, отказом от борьбы, он проповедовал равнодушие к жизни и смерти, и кончина его не была ничем замечательна. Сократ не отказывался от борьбы, он вел ее доблестно, и его смерть была почетным отступлением в область, не доступную для врага, но трофеи победы остались все-таки у этого врага.
Если сила физическая неизбежно побеждается смертью, то сила умственная недостаточна, чтобы победить смерть: только беспредельность нравственной силы дает жизни абсолютную полноту, исключает всякое раздвоение и, следовательно, не допускает окончательного распадения живого существа на две отдельные части: бесплотный дух и разлагающееся вещество. Распятый Сын Человеческий и Сын Божий, почувствовавший Себя оставленным и людьми, и Богом и при этом молившийся за врагов Своих, очевидно, не имел пределов для своей духовной силы, и никакая часть Его существа не могла остаться добычею смерти.
Мы умираем потому, что наша духовная сила, внутри связанная грехами и страстями, оказывается недостаточною, чтобы захватить, вобрать внутрь и претворить в себя все наше внешнее, телесное существо; оно отпадает, и наше естественное бессмертие (до того последнего воскресения, которое мы можем получить только чрез Христа) есть только половинное, бессмертна только внутренняя сторона, только бесплотный дух. Христос воскрес всецело.
«Когда же они это говорили, сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам! Они же в испуге и страхе думали, что видят духа. Он же сказал им: чего смущаетесь, и зачем такие помышления входят в сердца ваши? Видите руки Мои и ноги Мои – что это сам Я. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите Меня имеющего. И, сказав это, показал им руки и ноги. А как они от радости еще не верили и дивились, говорил им: есть ли у вас здесь что-нибудь съестное? Они же дали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взявши, ел перед ними» (Ев. Луки, XXIV, 36-43).
Духовная сила, внутренне свободная в Христе от всяких ограничений, нравственно беспредельная, естественно освобождается в Его воскресении и от всяких внешних ограничений, и прежде всего от односторонности бытия исключительно духовного в противоположность бытию физическому, воскресший Христос есть больше, чем дух, дух не имеет плоти и костей, дух не вкушает пищи, как дух навеки воплощенный, Христос со всею полнотою внутреннего психического существа соединяет и все положительные возможности бытия физического без его внешних ограничений. Все живое в Нем сохраняется, все смертное побеждено безусловно и окончательно.
Будучи решительною победою жизни над смертью, положительного над отрицательным, Воскресение Христово есть тем самым торжество разума в мире. Оно есть чудо лишь в том смысле, в каком первое новое проявление чего-нибудь, как необычное, невиданное, удивляет или заставляет чудиться. Если мы, забыв о результатах всемирного процесса в его целом, будем только следить за различными новыми его стадиями, то каждая из них Представится чудом. Как появление первого живого организма среди неорганической природы, как затем появление первого разумного существа над царством бессловесных было чудом, так и появление всецело духовного и потому неподлежащего смерти человека – первенца от мертвых – было чудом. Если чудесами были предварительные победы жизни над смертью, то чудом должно признать и победу окончательную. Но то, что представляется как чудо, понимается нами как совершенно естественное, необходимое и разумное событие. Истина Христова Воскресения есть истина всецелая, полная – не только истина веры, но также и истина разума. Если бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат – мудрыми, мир оказался бы бессмыслицею, царством зла, обмана и смерти. Дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том, прекратится ли истинная жизнь, жизнь совершенного праведника. Если такая жизнь не могла одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем? Если бы Христос не воскрес, то кто же мог бы воскреснуть?
Христос воскрес!
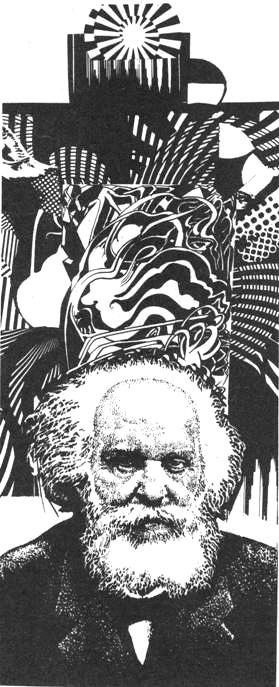 «Высокий, полный, седой, с огромным челом, с развевающимися «саваофовыми» власами, с прекрасной седой бородой и мечтательными голубыми глазами, воздетыми горе», торжественный и величественный, всем существом своим словно настроенный на позывные большого космоса – таким, как свидетельствует поэт-символист А. Белый, запечатлелся Н.А. Умов, физик-теоретик, в памяти сослуживцев и учеников. По словам А. Белого, было в нем что-то пророческое, ведь не раз в самой обычной, почти банальной его фразе вдруг слышались глухие отзвуки пульса мироздания, что-нибудь типа: «Бьют часы Вселенной первым часом!» В своих лекциях он чудно одушевлял дыханием живой, образной речи даже наискучнейшие, уныло-специальные вопросы физики и, как маг и волшебник, разворачивал перед восторженными слушателями, студентами Новороссийского (Одесского), а затем Московского университетов, великую «драму-мистерию» естествознания. Умов был замечательным, оригинальным ученым, поистине энциклопедистом в физике. По словам его ученика и биографа Н.А. Бачинского, труды Николая Алексеевича «относятся ко всем отделам физики и нередко захватывают и сферу сопредельных наук, как то: механики, астрономии, метеорологии и химии». Умов был основателем учения о локализации и движении энергии, занимался термомеханическими явлениями в упругих твердых телах. Есть у него работы по теории относительности, экспериментальному изучению поляризационных свойств света, рассеянного мутными средами, земному магнетизму и т.д.
«Высокий, полный, седой, с огромным челом, с развевающимися «саваофовыми» власами, с прекрасной седой бородой и мечтательными голубыми глазами, воздетыми горе», торжественный и величественный, всем существом своим словно настроенный на позывные большого космоса – таким, как свидетельствует поэт-символист А. Белый, запечатлелся Н.А. Умов, физик-теоретик, в памяти сослуживцев и учеников. По словам А. Белого, было в нем что-то пророческое, ведь не раз в самой обычной, почти банальной его фразе вдруг слышались глухие отзвуки пульса мироздания, что-нибудь типа: «Бьют часы Вселенной первым часом!» В своих лекциях он чудно одушевлял дыханием живой, образной речи даже наискучнейшие, уныло-специальные вопросы физики и, как маг и волшебник, разворачивал перед восторженными слушателями, студентами Новороссийского (Одесского), а затем Московского университетов, великую «драму-мистерию» естествознания. Умов был замечательным, оригинальным ученым, поистине энциклопедистом в физике. По словам его ученика и биографа Н.А. Бачинского, труды Николая Алексеевича «относятся ко всем отделам физики и нередко захватывают и сферу сопредельных наук, как то: механики, астрономии, метеорологии и химии». Умов был основателем учения о локализации и движении энергии, занимался термомеханическими явлениями в упругих твердых телах. Есть у него работы по теории относительности, экспериментальному изучению поляризационных свойств света, рассеянного мутными средами, земному магнетизму и т.д.
Но уникальность его как ученого в том, что наряду с научными изысканиями и экспериментами, параллельно с выработкой новых и развитием уже известных физических теорий его ищущая, чуткая ко всякому нестроению, ко всякому страданию мысль формировала свое, цельное и оригинальное мировоззрение, свой взгляд на эволюцию природы и космоса и место в ней человека. И взгляд этот, безусловно питаясь материалом его научных разработок, выходил уже за рамки чисто физического, приобретал всеобъемлющее, этическое значение, становился своего рода манифестом нового человека, homo sapiens explorans (человека разумного исследующего), обоснованием великой его задачи в мироздании. «Он был первейшим русским физиком-философом», – писал об Умове известный профессор, популяризатор знаний О.Д. Хвольсон. Так себя ощущал и сам Николай Алексеевич. «Физику поистине приличествует звание философа», – не раз говаривал он. И как бы материализовывал этот афоризм в своих статьях, что зарождались где-то на огненном, судьбоносном перекрестке философии и естествознания. Умов стремился расширить границы применения науки, по-новому сформулировать главные ее задачи. Научное знание приобретало для него значение поистине всечеловеческое и вселенское, поставлялось в авангарде борьбы с накатывающимся на живое валом энтропии, хаотической мертвой материи.
Попытаемся вкратце представить взгляды ученого на эволюцию вообще. Явление жизни – всего лишь случайность, но, раз возникнув хрупким островком в океане мертвой материи, именно она движет теперь судьбу Вселенной. Обладая стройностью и увеличивая качество этой стройности во все новых и новых живых существах, она гармонизирует мертвую материю, собирает и претворяет рассеянную в пространствах энергию в органические ткани. Но как мучительна борьба, как ничтожно средоточие живого вещества во владениях исполинского космоса! Неумолимый вал энтропии грозит потопить утлое суденышко жизни. И все же жизнь борется, создает существа уже гораздо устойчивее прежних, пестует нервную систему, ведь она наиболее сложна, дифференцированна, а потому и стройна, упорядоченна – вот как претворяется здесь идея Д. Дана о цефализации, направленном совершенствовании нервной ткани в процессе эволюции. И наконец, в предельном усилии, в высшем творческом порыве живая материя создает человека, который во всеоружии разума и научного знания, нравственности и мощной способности к творчеству становится новым противником энтропии, надежным кормчим эволюции.
Но кормчий этот менее всех прочих тварей приспособлен к природной среде и не довольствуется ее «естественными предложениями». Он создает себе как бы «вторую природу» в искусственных орудиях, жилищах, машинах и т.п. Ничего не получив от рождения, он все творит сам. Как не вспомнить тут федоровское понимание сущности человека, что призван «все даровое обратить в трудовое». Сам Умов поистине болел этой идеей. Лейтмотивом звучит она в статьях ученого, одушевляет и частную его жизнь. В годы молодости, будучи полон сил и энергии, он получает небольшой участок земли на южном берегу Крыма под дачу. Место глухое, дикое, неустроенное. Ни воды, ни дорог, девственная, неокультуренная природа. И вот профессор, физик, интеллигент, человек умственного труда с необычайной увлеченностью, энергией и сноровкой берется за «внесение стройности» в этот природный хаос. Расчищает территорию, проводит оросительные каналы, строит колодцы, теснит владения скал и камней, борясь за каждый сантиметр плодородной земли. В считанные годы этот крымский уголок, где испокон веков не росло ничего, кроме диких трав и кустарников, преображается. Перед глазами изумленных гостей – роскошный сад, домик, выглядывающий из зелени, и неутомимый его хозяин, усердно копающийся на грядке.
Вообще, он был пронзен хрупкостью жизни посреди всесильного, все умерщвляющего хаоса, тяготился физическим несовершенством человека, явной его беспомощностью перед старостью, болезнью и смертью. Может быть, поэтому столь силен в нем, так сказать, технический пафос и столь сердечно отношение к машине. Ведь изобретая орудия, творя «вторую природу», человек «неизменно борется» с невечностью, силится преодолеть смерть «в создаваемых им механизмах» и чаяние «вечной жизни» воплотить в «перпетуум-мобиле». Умов вообще несколько иначе понимает машину, не так, как мы, умудренные отрицательным опытом индустриализма, автоматизации и механизации. Что-то зловещее есть в механизме, перерабатывающем живое вещество, чтобы создавать из него мертвые вещи. Что-то страшное, когда и живое, человеческое пытаются сорганизовать по типу автомата. Этим и объясняется амбивалентное отношение к машине в современном мире и все те проклятия, что посылаются ей на страницах антиутопий. Для Умова же машина – соратник и друг человеку. Она – не бесчувственный расчленитель живого, не в этом главный ее смысл и задача. Но в том, чтобы «распространить стройность», т.е. как раз начало жизни, организации, на «неорганизованную материю», на мертвое, косное вещество. Машина спасает мертвую материю, которая необратимо, неизбежно, согласно второму закону термодинамики, катится к хаосу, к энтропии.
Вероятно, теперь, спустя десятилетия, когда технический, индустриальный путь стал понемногу обнаруживать таящиеся в нем contra, а колоссальная мощь машины добилась прямо противоположного тому, о чем мечтал Умов, т.е. предельно умалила человека, продемонстрировала его бессилие, станет объективно яснее, что внешний, орудийный прогресс не способен радикально улучшить человеческую природу, не спасет ни от физического несовершенства, ни от смерти. Да и самые умные и совершенные машины все же лишь в малой степени организуют косные вещества, а скорее, разрушают живые. Но тогда, в начале века, на волне новых научных открытий и головокружительных технических достижений мечта о победе над временем, над человеческим несовершенством с помощью техники действительно одушевляла таких бескорыстных и чистых сердцем ученых, как Н.А. Умов.
Он верил в технику как в воплощение силы и всемогущества научного знания. А науку считал высшим проявлением человеческого разума, надежным инструментом создания «второй природы», «последней ставкой жизни». По мнению Николая Алексеевича, именно естествознание, проникая в тайное тайных мироустройства, уже сознательно раскрывает человечеству его эволюционную задачу как орудия жизни, борца с энтропией. Естествознание было религией ученого, его упованием. В статье «Роль человека в познаваемом им мире» он помещает «Исповедание естествоиспытателя», где призывает сделать науку реальной мирозиждущей силой, истинным утверждением власти человека «над энергией, временем и пространством». Кстати, в одном из набросков Умов в качестве одной из форм регуляции предлагает регуляцию атмосферическую, перекликаясь в этом с идеями Н.Ф. Федорова.
Не покидает его и вопрос о границах человеческого знания, о том, может ли наука ограничиваться лишь тонким срезом настоящего, рассматривая мир и человека в статике, в текущем мгновении. Ведь в человеке как бы записана вся эволюция живого вещества, в его психике, в бессознательной памяти отпечатлелись следы давно минувших эпох: канувшие в вечность виды, мириады живых существ, безвестные поколения наших предков. Мы носим в себе совокупную психику живого, и даже дурное, страшное в нас, что пугает, мучит, грозит вылиться грехом и преступлением, есть нестершееся наследие животного мира: «сладострастия рептилий», «бессердечности рыб «мстительности тигра» и т.д. «Человек – памятная книжка энтропии» и в акте воспоминания пусть мысленно, неосознанно, но восстановляет минувшее, как бы рекоконструирует его. Знание наше, утверждает Умов, не обратившись к прошлому, не восстановив в ныне живущем человечестве историю всего прошедшего, не прозревая этой истории лики ушедших, канувших в вечность существ, что буквально жизнь свою положили в вековом походе за стройность, обречено пребывать ограниченным и бессильным. Нужно «признать духовную связь между нами и уже вымершим живы миром на нашей планете», тогда наше знание сделает возможным управление. Вновь встречаемся мы здесь с устойчивым мотивом всей активно-эволюционной мысли: связь всего мироздания не только в пространстве, но и во времени, зависимость будущей его судьбы от обращения с прошлым – идея, которая в философии «общего дела» вылилась в грандиозный проект «всеобщего воскрешения», восстановления «благолепие нетления» всего живого мироздания.
Наука предвидения и творчества призвана, по мнению Умова, стать всеобщи делом, ее чудеса должны твориться всеми, тем самым приумножив «христолюбиво воинство» жизни, соединив в него весь род человеческий. Пожалуй, не было в истори русской науки ученого, который столько времени, столько усилий ума и сердца отдавал бы пропаганде и популяризации научных знаний, в собственной жизни исполня «Исповедание естествоиспытателя». Это, вообще, очень характерная его черта: главные свои философские и мировоззренческие постулаты тут же делать правилом жизни. Еще в юности, будучи студентом, вместе с друзьями он организовывает кружок лекторов для народного просвещения, так называемое Общество распространени технических знаний в народе. А потом на протяжении почти 40 лет научной деятельности Умов – ревностный участник, организатор, председатель целого ряда научных естествоиспытательных, пропагандистских обществ. В 1909 г. он предлагает создать в России музей опытных наук и техники, дабы развернуть перед общественностью картины технического прогресса, познакомить с последними достижениями науки. А еще он преподает на женских курсах, читает физику физикам, математикам, медикам, агрономам, участвует в естественнонаучных съездах, редактирует научно-популярный журнал «Научное слово» и сам пишет туда статьи. Выступает с публичными лекциям и речами, где в живой, доступной форме излагает историю естествознания, а потом основываясь на строгом научном фундаменте, пророчествует о великом призвани жизни и о разуме человеческом как последней надежде мироздания. Последнюю ж свою речь «Эволюция физических наук и ее идейное значение», прочитанную на съезде преподавателей физики, химии и космографии, ученый заканчивает вдохновенным гимном творчеству, дерзнувшему поколебать второй закон термодинамики, человеческому гению, «надежному кормчему» Вселенной, этому «сыну неба», что «был и будет апостолом света».
Но все вышеизложенное не дает ли читателю право обвинить Н.А. Умова обыкновенном сциентизме, предпочтении науки, точного знания всем прочим сторонам человеческой натуры? Нет, Николай Алексеевич вовсе не был поклонником сугубого рацио. Нравственная чуткость и любовь к красоте были неотъемлемыми свойствами его характера. Ученый увлекался изящными искусствами, был неплохим пейзажистом. «Не делать зла ни в какой мере, делать возможно больше добра» – такой евангельски простой аксиомой руководствовался он в повседневной жизни. Был активнейшим членом «Общества покровительства отбывшим наказание и бесприютным»; в поддержку этого учреждения опубликовал статью под названием ’Αγάπη («Любовь»), а в свое время даже написал драму «Misericordia» («Милосердие»). Более того, его представление об эволюции мироздания не только не отрывается от этики но именно возрастание последней он кладет в самую сердцевину эволюционного процесса. Возникновение нравственного чувства, по мнению ученого, явилось следствием упорядоченности живого вещества, совершенствования физической оболочки homo sapiens. Совесть, этот «глас Божий в человеке», рождается в нас как некий высший уровень стройности и становится мощным орудием эволюции: организует психику, упорядочивает хаотические душевные вихри, отсекает грех и зло. Ибо последние для нашего мыслителя – своеобразные уклонения от стремительного луча эволюции, ее сбои и тупики, лазутчики энтропии в потоке живого вещества. Направляется же вектор эволюции к осуществлению этических идеалов, этих «высших проявлений стройности», идеалов благобытия, органически соединивших в себе и добро и красоту.
И тут разве не промелькнет у нас мысль о том, что такая трактовка эволюционного процесса является как бы естественнонаучным обоснованием религиозного, христианского идеала? Ведь вся история падшего мира, мира, который «во зле лежит», направляется к Царствию Небесному, благому типу бытия, где побеждены слепые, хаотические силы материи, где «последний враг истребится, смерть». Эта перекличка не случайна. Она свойственна большинству активно-эволюционных мыслителей как на Западе, так и в России. И Д. Дана, и П. Тейяр де Шарден были теологами, а Н. Федоров, Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев традиционно считаются религиозными мыслителями. Они стремились подтвердить христианское обетование раскрытием объективных эволюционных законов и скрепить религиозным идеалом разрозненность научных истин. Не был исключением и Н.А. Умов. Соединение «натуралистической веры» с «религиозной пытливостью», как утверждает его биограф, было основанием и внутренней, «духовной жизни», и научных его проектов. Причем оба эти свойства натуры мальчик унаследовал от родителей. Его отец был страстным естествоиспытателем, мать же глубоко религиозна. В Умове словно буквально осуществилось то, о чем писал Н. Федоров: «Душа человека не tabula rasa, не лист чистой бумаги... а две биографии (отца и матери. – А.Г.), соединенные в один образ».
В последние свои годы и месяцы ученый-физик непосредственно обращается к проблемам религии. Создает ряд небольших этюдов в стиле древних религиозных писаний, излагая в них заветные свои идеи, выношенные долгим научным трудом и размышлением естествоиспытателя.
Но и более ранние его речи и статьи проникнуты истинно христианским чувством. В них повествует он о глубокой внутренней связи, что соединяет все существа Вселенной. Умов «углубляет самое понятие ближнего», расширяя его буквально до всего «живого мира», всего космоса, который и призван человек «возлюбить как самого себя». Чувство любви, если его соединить с научным знанием, получит необходимую «векторность», действенность и силу; это выведет его за рамки филантропии, которая лишь облегчает страдание, но не устраняет источник зла в мире. «Логос», «слово жизни», где нераздельны знание и любовь, должен стать «регулятором человеческой жизни». Весь объем провозглашенного Умовым тезиса станет понятен нам только тогда, когда мы вспомним, что Христос, согласно Священному Писанию, есть именно Логос, Слово Божие и что, соединяя в себе абсолютную полноту любви с абсолютной полнотой знания, обладает Он несокрушимой властью над злом, страданием и смертью.
Исполнилось уже 50 лет со дня оглашения основ учения Дарвина о происхождении видов, тем не менее далеко еще не учтены вытекающие из него выводы по отношению к человеку, его этической и социальной жизни.
Обязательное для естествоиспытателя допущение, что различные состояния и деятельности нашего ума сопровождается переменами в нервной системе, приобретает твердую почву после новейших исследований о крайней делимости материи и чрезвычайной малости ее элементов. В одном кубическом сантиметре мозг имеется столько отдельных элементов, сколько букв в обширнейшей библиотеке. Подобно буквам, веками группировавшимся мысли, и элементы мозгового вещества в течение чрезвычайно дли тельных промежутков времени укладывались в определенные структуры. Работа психического аппарата живого существа тесно связана с материальной структурой его нервной системы и неуловимой в своих деталях, потому что дело идет о свойствах и группировке тончайших элементов материи. Отличия организации видов живого должны поэтому отражаться в их психической жизни, а потому и в пределах одного и того же вида изменения психической деятельности должны совпадать с изменениями материально) структуры. Отсюда вытекает, что вопрос об эволюции мировоззрения для естествоиспытателя есть в то же время и вопрос об эволюции человеческого типа. Сравнивая человека древности с современ ным, мы приходим к заключению о глубоком различии между ними Старый тип довольствовался светом взошедшего над горизонтом светила, новый – извлекает из недр Земли угасший в ней тысячи веков тому назад луч солнца и воскрешает его в свете вольтовов дуги. Старый довольствовался дарами природы в ее силах и в свою органах чувств, новый – и к тем, и к другим приставил машину Один седлал животное, другой седлает пар и электричество. Один изнемогает под бременем далеких пространств и медлительно текущих времен, другой сократил пространство и время и раба-вестника заменил электрической волной. Это различие между древним г новым человеком вытекает из того, что в основу жизни второго могучей волной устремилось научное знание.
Новый тип человека в отличие от старого – homo sapiens – окрестим именем homo sapiens explorans*54. Оба типа еще не вполне дифференцировались. Старый тип существует и среди современного человечества. Они разнятся и в своих мировоззрениях, и их кардинальном пункте – вопросе о месте человека в природе. Учение Дарвина решает этот вопрос в том смысле, что человек представляет собою одну из форм живого, родословное дерево которого начинается в тех атомах, которые когда-то считались основными камнями мироздания, современной же наукой признаются рождаемыми и смертными. Творение в мире представляется непрекращающимся процессом. Такими воззрениями упраздняется дуализм в природе человека, пропасть между силами психическими и силами неорганизованной материи. Богатство психики зависит от более или менее тесной связи индивидуума с миром. Эта связь возрастает от песчинки минерального царства к листу в царстве растительном и к человеку в царстве животном. Психика вида – это отражение его связи со всем существующим. Включение психи в разряд естественных явлений богато последствиями. Все фазисы естественно-исторического возникновения вида в течение нескончаемого числа веков должны найти себе отражение и в его психике. Человек несет в себе инстинкты всех существ, образующих его генеалогическое дерево. Наша психика имеет поэтому несравненно больший объем, чем тот, который приписывается ей нашим сознанием. Формула, что ничего нет в сознании, чего не было бы в ощущении, должна быть добавлена фразой – в течение миллиона веков.
Такой взгляд на психику освещает и этику. Грех и зло являются несоответствиями эволюции типа. С этой точки зрения добро и зло существуют и в несознаваемой психике, в той невменяемой натуре, требования которой так императивны для индивида и подчинение которой рекомендуется некоторыми. Но в этой невменяемой натуре отражаются все качества предшествовавшего человеку звериного царства: бессердечность рыб, сладострастие амфибий, ярость рептилий, мстительность тигра, хитрость и вороватость обезьян. Эволюция невозможна без отбора требований натуры, и человеческая совесть в области сознательной – воля – является орудием этого отбора, препятствующим живому вернуться в те условия, которые не соответствуют его месту в природе и при которых его существование было невозможно. Природа вынуждает к жизни все живое; это часы с очень короткой пружиной, требующие непрерывного завода. В то время как вне живого процессы природы выражаются в разрушении стройных движений и увеличении движений беспорядочных, эволюция живого развивает типы, которые с большим и большим успехом борются с нестройностями природы и сами становятся источниками возрастающей стройности. И в этом отношении в настоящую минуту впереди всех стоит человек, который в своих движениях, в своих воздействиях на природу, в построении машин, в своей психической деятельности (мысли и чувства), в науке и этике создает стройности. Стройность есть необходимый признак живой материи. И в этом направлении человек переходит за пределы своих органов чувств. Он познает и подчиняет своим целям силы природы, для ощущения которых он не имеет специальных органов: сюда относятся силы электрические;, магнитные и миллиарды неощутимых лучей, пронизывающих Вселенную. Но все в мире связано между собой, если не непосредственно, то посредственно; это есть основной принцип естествознания. Если существуют две вещи A и B, которые не действуют друг на друга, то непременно существует третья вещь – посредник C, – которая взаимодействует и с A, и с B; A узнает о B по изменению C. Вся задача познания сводится к построению цепей, концы которых представляют непосредственные вещи и связаны с помощью вещей-посредников со звеньями из доступных нам явлений. Если нам закрыта сущность явлений, то в смысле, указанном выше, для науки нет непостижимого в мире.
Если сущее повелевает нам жить, то вместе с тем оно одаряет нас приспособлениями для исполнения этого веления; наука раскрывает нам эту волю и, работая рука об руку с нею, совершает великое дело любви. От данных гением Ньютона axiomata sive leges motus*55 она восходит к axiomata sive leges vitae*56, создает образы ее уменья переживающие преходящую индивидуальность, идущие от поколения к поколению, от века к веку... Она творит бессмертное. В созерцании раскрывающейся истины без страха и тревоги смотрит в будущее homo sapiens explorans.
| ...Даже принимая во внимание в вечных принципах разума справедливости и гуманности только благоприятные шансы, с ними неизменно связанные, следование им дает большие преимущества, а уклонение от них – тяжелые последствия... |
<...> Жизнь сплетается с чувством, которое древний грек выразил словом ’αγάπη, это – любовь к человеку не ради симпатий и особых отношений к его личности, не любовь мужчины и женщины, не привязанность дружбы, нет, это – чувство, с которым гостеприимный хозяин встречает в своем доме чужеземца-гостя, это – любовь к человеку как к человеку. Она живет издавна в нашем мире, он; воспета еще бессмертным Гомером!
Развиваясь в своей глубине и содержании, ’αγάπη в последующие моменты исторической жизни человечества представлялась ем; даром, все более и более ценным: в глубокой древности богам при носились человеческие жертвы, современное человечество приносит в своем сознании Бога в жертву любви к человечеству! Воз можно ли возвести идеал на ступень высшую? Такое беспримерною в развитии человеческого сознания повышение одного из руководящих принципов поведения имеет бесспорно глубокую и коренную причину. Не имея единой воли и единой мысли, человечество вырабатывает принципы жизни, не руководствуясь трактатами об их полезности и истине; оно преклоняется и концентрирует свою духовную деятельность около понятия, объединяющего эти принципы; оно отвечает ему таким же отзвуком, как камертон отвечает дрожаниям волны унисона! Эти отзвуки, эти резонансы, вырываемые из груди человечества не ученой работой, не длинным рассуждением, а одним только словом, раскрывают нам неведомые струны, глубоко таящиеся, скрытые от наших собственных глаз. В наш век анализа не будет лишним указание, хотя бы в бледных штрихах, на смысл этих отзвуков. Этот смысл – в том, что в сущности должно быть единым и различается только возрастом в истории культурного развития человечества. Это – значение неизвестного нам понятия, которое заменило бы два: научное знание и любовь ’αγάπη!). Мы дадим этому неизвестному наименование, заимствуя его, по обычаю, из древнего языка, Λόγος, слово жизни.
Перед вами ваши стенные часы; мерно падают маятник и так же мерно подымается вверх, и так неизменно от одного дня к другому. Прислушайтесь: маятник стучит, стучит правильно, иногда бывает перебой – часы идут дурно, их нужно установить. Маятник – это регулятор: он сдерживает и регулирует падение гири часов; уберите этот регулятор – гиря быстро спустится на подставку, стрелки хаотически закрутятся по циферблату, молоток отзвонит сразу долгие часы, и без связи, бесцельно истратится энергия механизма.
Жизнь человека – те же часы: падающая гиря – неизвестный нам двигатель этой жизни, а маятник, регулятор – это Λόγος – научное знание и любовь! Хороший регулятор не дает перебоя.
Вглядимся ближе в регулирующую функцию маятника: его нисходящее качание освобождает гирю – она падает; восходящее задерживает гирю – она останавливается. Нисходящее качание маятника – это любовь в жизни человечества: альтруизм; восходящее качание следует за этим расходом, оно останавливает гирю в ее стремлении к беспредельному хаотическому падению: в жизни человечества это – научное знание. Восходящее качание невозможно без нисходящего, научное знание невозможно без жизни, но только жизнь хаотическая, без толку и цели расходующая свою энергию, не нуждается в научном знании.
Прислушайтесь, однако, к говору ежедневных событий, к гулу повседневной жизни. Не правда ли, вы согласитесь со мною, что не нужно иметь особенно острого слуха, чтобы слышать непрерывный перебой, хаотически звучащий отовсюду!
Наши часы идут плохо, регулятор нашей жизни не соответствует своему назначению; это – дешевенький маятник, сделанный на скорую руку; маятник есть потому, что мы доросли до сознания его необходимости, но мы не приложили стараний к его обработке, на это у нас не было времени, были другие заботы, другие печали, и мы запаслись ими только мимоходом: регулятор нашей жизни не есть Λόγος!
В своем поведении, в своей деятельности среди людей, мы забываем или не подозреваем одного: каждый из нас прежде всего не более как нумер! Да, природа создает в вашей личности только нумер, и его цифра отпечатана и в длине ваших членов, в вашей фигуре, в каждом мускуле, в каждой складке; она отпечатана стойкими чертами и исчезнет только с вашей жизнью. Каждый из нас занумерован, и это несомненный вывод науки. Мы свободно машем руками, киваем головой, – двигаем членами, и нам кажется, что так же свободно, без стеснения, можем делать выбор между тем или другим поведением. Мы забываем одно, что все эти движения производятся в том лишь случае, когда они не встречают препятствий; такое условие доступно нашему контролю, предвидению, расчету лишь в обыденных событиях нашей жизни; обобщая этот обыденный опыт, мы полагаем, что в наших поступках руководствуемся одним личным хотением.
Но вы испытывали тягостное чувство, когда приходилось пробраться ощупью в темном неизвестном помещении. Вы не придавали этому чувству большой важности, потому что положение было временно, несерьезно. Тем не менее такое чувство заслуживает внимания, анализа. В его основе лежит не больше, не меньше, как сознание нашей беспомощности, сознание нашей зависимости от окружующего мира, недостаточность одного хотения как мотива поступков.
Таким помещением, в котором мы, не подозревая его темноты беспрерывно вращаемся, представляется жизнь человеческая: а м двигаемся в нем, как в зале, освещенном тысячами огней. В лучше случае мы сами несем светильник, освещающий нам наши пути – ’αγάπη. Но он не дает указаний тех территорий, которые нуждаются в его свете. Протяжение нашей жизни, иначе говоря – результата вытекающие из нашего поведения и нашего миропонимания, простираются далеко за пределы нашего личного обихода и существования. Естествознание открывает нам, что мы и окружающие нас вещи окутаны сетью, как рыба неводом, что эта сеть тянется и далекое прошлое и далекое будущее. Своими свободными, но при незнании строения этой сети, в сущности, бессвязными движениям мы дергаем ее и спутываем, причиняя ненужные страдания не только своим соседям, находящимся в том же положении, как и мы но и далекому потомству и рефлекторно самим себе. Эта сеть делает ближними не только всех нас между собою и с нашим потомством но и со всем живым миром и углубляет самое понятие ближнего.
Великой заслугой естествознания, еще не оцененной массам» является присоединение к известному уже со времени глубокой древности горизонту применения ’αγάπη нового, обширного, открываемого научным знанием. На обычном горизонте деятельность ’αγάπη направлялась к ликвидации несчастного прошлого или настоящего она выражалась в филантропии, которая в своих лучших формах не ограничивалась приемами массового попечения о людях, но возвышалась до любви детальной, сердечной – этого величайшего блага сходившего к несчастному, отверженному; благо, способное пере создать человека. Этого мало для нашего времени.
Убеждение в существовании связи между всеми явлениями мира как маловажными, так и крупными, ясно высказывается в следующих словах великого мыслителя (Лапласа): «Разум, которому в данное мгновение были бы известны силы, управляющие природой. и положение существ, ее составляющих, который был бы достаточно могуществен, чтобы подвергнуть эти данные анализу, представил бы одной формулой и движение небесного светила и легчайшего атома: ничто не было бы ему неизвестным – грядущее и прошедшее были бы ему открыты»*59. Это убеждение разделяется обыкновенно по отношению к физическому миру. Вы уверены в том, что совершаются события и явления, вам неизвестные и тем не менее вносящие свое влияние и в вашу личную жизнь; вы принимаете меры к устранению тех, которые были бы вредны вашей личности. Вы не сомневаетесь в том, что антисанитарное состояние какой-нибудь лачуги на окраине города может передать заразу и в вашу квартиру; уверенность, что в этой сфере существуют какие-то таинственные нити, связывающие ваше физическое благополучие с благополучием бедняка, создала новую и важную заботу городских и общественных управлений. Общественные заботы должны простираться далее.
Мы должны воспитать в себе твердое убеждение не только о связи поведений лиц, близко и далеко стоящих друг от друга; но такую духовную связь мы должны признать и между нами и уже вымершим живым миром на нашей планете. К такому убеждению призывает нас наука; оно предотвратит многие делаемые нами ошибки в понимании требований и потребностей нашей природы, оно разъяснит нам весь эгоизм применения ’αγάπη только в пределах представляющейся нам неподвижною современности, все бессердечие наше по отношению к будущности человечества. Пора подняться на эту ступень, чтобы нам не звучали укоризной пророческие слова Сенеки*60: «Наступит день, когда тщательным изучением в течение многих веков вещи, скрытые от нас в настоящую минуту, станут очевидными, и потомство будет удивляться, что от нас ускользнули столь ясные истины».
Какие же указания относительно начал, долженствующих регулировать наше поведение, открывает нам естествознание?
Человек не есть нечто неизменяемое: как индивид, принадлежащий к эволюционирующей расе, он носит в себе и наследие всей протекшей эволюции и зачатки будущей. Правильное отношение к человеку не может основываться поэтому только на знании современной нам природы, как его самого, так и внешней, по отношению к нему: такое знание не даст нам понимания того, чего мы ищем. Мы должны знать больше, чем одну современность, и к таком) широкому знанию стремится природоведение. Очень многие усматривают цель естественных наук с их кропотливыми и точным» методами определения меры, веса и числа только в удовлетворении человеческой любознательности. Но читатель станет на другую точку зрения, вдумываясь в заветы великих подвижников естествознания и открывая их глубокий смысл в целостности служения науке и людям.
Выскажем исповедание естествоиспытателя.
I. Утверждать власть человека над энергией, временем, пространством.
II. Ограничивать источники человеческих страданий областью наиболее подчиненной человеческой воле, т.е. сферою сожительства людей.
III. Демократизацией способов и орудий служения людям содествовать этическому прогрессу. Демократизация или общедоступность чудес науки, как по отношению к творящим эти чудеса, так и к воспринимающим даруемые ими блага, есть их исключительная привилегия. Для чудес науки нет пределов ни в пространстве, ни времени, нет избранных и отверженных. Возьмем для примера открытие Пастера*61 – метод лечения бешенства и инфекционных болезней. Он может быть применяемым в любом месте земного шара, к любому страждущему индивиду и переживет поколения; эти методы приобретаются знанием, они изображены в открыты каждому приемах; приобретение их зависит только от доброй воли ищущего послужить человечеству, а не от посторонней милости. Этот научный способ исцеления физических страданий и поднятия природы до возможности удовлетворения повышенных потребностей людей есть достояние новейших времен, и рассказы о чудесах науки заменяют свидетельства летописцев о чудесах милостью неба, всегда связанных с определенным географическим местом, определенными лицами и определенным временем.
Общеизвестные, ставшие уже банальными факты, как: привитие оспы, уничтожение болевых ощущений анестезирующими сре ствами и т.п., общедоступность пользования быстротой передвижения (железные дороги, трамваи), личных сношений (телефоны, телеграфия), т.е. сокращение пространства, сбережение времени иначе – полезное удлинение деятельности или жизни и т.д., указывают на глубоко демократический характер служения науки людям. Это служение касается насущных страданий и нужд, распространенных в массе человечества, а не противоестественных и у единичных индивидов. Эти блага нисходят к людям только от разума человеческого, испытующего природу.
IV. Познавать архитектуру мира и находить в этом познани устои творческому предвидению.
Творческое предвидение – венец естествознания – открывае пути предусмотрительной и деятельной любви к человечеству. Он дает возможность превращать курьезы и мало заметные вещи природы в мощные орудия цивилизации, защищать человечество от грозящих ему опасностей, близких и далеких. Припомним, например, электричество-забаву: притяжение легких тел смолой, натертой шелком, и взглянем, какой глубокий переворот внесла эта забава рукой науки в современный обиход человека!
Естественнонаучное предвидение вселяет уверенность в том что, продолжая великое и ответственное дело создания среди старой природы – новой, второй природы, приспособленной к повышенным потребностям людей, естествознание не ударит отбоя.
Если мы обладаем каким-либо источником силы, скажем запасом динамита, мы можем, конечно, произвести действие, например, взорвав этот динамит. Но такое действие будет хаотичным и потоку бесцельным, бесполезным. Мы должны прежде, чем воспользоваться источником силы, точно установить и утвердить направление ее действия. Наука называет величины, имеющие определенные направления, как сила тяжести, скорость летящего тела, векторами или величинами, обладающими векториальными свойствами. Прежде чем воспользоваться источником силы, если мы не хотим создать только шумиху, мы должны сообщить ему векториальные свойства.
Эти рассуждения поясняют мысль, что недостаточно обладать любовью к человечеству, быть обладателем ’αγάπη. Этому ’αγάπη нужно придать векториальные свойства, твердо установить то направление, в котором должна развертываться таящаяся в нем сила. Действительно, на протяжении всей истории человечества мы встречаем вненаучных мыслителей, которые стремятся превратить ’αγάπη в вектор. Но такие попытки, нередко звучащие и в нашей современности, должны уступить определениям, вытекающим из научного понимания мира.
Правильная деятельность человека возможна только при устойчивости жизненного обихода, и потребность в такой устойчивости, а также кратковременность личного опыта сравнительно с продолжительностью эволюции нашей планеты склоняют людей к вере и создают мираж прочности окружающего порядка вещей не только в настоящем, но и в будущем. Этот мираж завладевает и выдающимися мыслителями, которые строят на нем правила человеческого поведения; такие проповеди ведут к застою всех тех способностей, которые приобретены человеком в течение предшествовавшей эволюции живого мира и скрывают в себе зародыши будущей. Идет насмарку работа природы в течение многих миллионов веков, к крупное достояние разменивается на мелкую монету. И соразмерят темп человеческого поведения с воображаемою неизменяемостью современности, практическое применение великой способности к ’αγάπη ведет в конце концов к работе разрушения, а не любви. Забываются существенные вещи: наша Земля не есть беспредельная плоскость, а имеет вполне ограниченную, сравнительно небольшую поверхность, всего около 371/2 тысячи верст в окружности; эта поверхность, по преимуществу являющаяся местом развития жизни не обладает беспредельным и неизменно сохраняемым запасом энергии. Эволюция земной природы, этого дома жизни, идет под уклон между тем как эволюция нашей человеческой расы идет к подъему. В полной дисгармонии с естественными предложениями природы стоит как рост человеческих потребностей, так и их современный уровень. В человеке, как во всем живом и мертвом в природе, все процессы происходят с соблюдением возможной экономии сил и материала. В сознательной деятельности человека этот закон выражается в потребности возможно плодотворного использования своих сил и способностей: эта потребность существовала и в глубокой древности, но ее императивность не достигала той высоты, как в настоящее время, когда вытекающие из развития естествознания успехи техники дают обильный материал для ее удовлетворения; в этом направлении кротость и покорность человека естественному распорядку и течению процессов природы разумно заменяются требовательностью. Разумно – ввиду неизвестного будущего, становящегося на место воображаемого, известного тем мыслителям о которых я говорю. В этом неизвестном мы открываем уже теперь далеко не успокоительные предзнаменования, которые одни уже являются достаточными для осуждения квиетизма*62 и минимального использования способностей нашего ума. В наше время настроение, соответствующее распространительному толкованию изречения «довлеет дневи злоба его*63, означает равнодушие к судьбам человечества.
Нам предстоит голод железа, нефти, угля. Благодаря тому, что наука не овладела еще нашей атмосферой, и благодаря неизменно возрастающему приросту населения, вероятен голод хлеба: на очереди стоит изыскание способов увеличения производительности у известных источников пищи и отыскание новых.
Но многое другое неблагополучно в доме нашей жизни. Представьте себе в Москве расстояние от Сокольничьей заставы до Девичьего монастыря (около 10 верст) и поставьте его вертикално. У верхнего конца этого расстояния уже имеется зона вечного шестидесятиградусного мороза. В некоторых местах земного шара она еще ближе спускается к поверхности Земли. Эта зона – смерть всего живого; когда-то она была дальше от нас и незаметно подкралась так близко... Воздух – среда нашей жизни – занимает лишь часть высящейся над нами атмосферы, а остальное наполнено газами, неспособными поддерживать жизнь (между ними водород и геокороний).
Если бы люди последовали призывам к упрощению жизни, соединенному с отказами от пользования приобретениями науки дальнейшей ее разработки, они, несомненно, вернулись бы в то состояние древнего человека, которое вынудило бы их снова населить природу милостивыми или гневными богами, а затем совершился бы тот самый цикл, который уже пережит историей человечества.
Оставляя в стороне возможные крупные перемены в условия жизни, как повторение ледяного периода, обратимся к нашей собственной организации. Вам знаком облик бойца, вырвавшегося из буйствующей толпы с кровоподтеками на теле и в изодранной одежде. Не представляется ли человек с несовершенствами своей природы, со своими моральными и материальными недомоганиями, с наклонностями – наследием нашей звериной генеалогии – таким же истерзанным бойцом, вырвавшимся из битвы за жизнь типов живого на нашей планете? Мы не замечаем этой битвы, этого буйства жизни на Земле только потому, что оно растянуто на миллионы веков. Оно маскируется этой растянутостью, и тем самым создаются все опасности незнания. На этой почве неведения появляются иные проповеди, возводящие данную натуру человека на степень законодательницы человеческого поведения. Здесь снова игнорируется происхождение человека, все наследие, переданное ему его предками животного царства.
С другой стороны, растянутость жизненного боя дает науке время раскрывать дисгармонии человеческой природы и изыскивать средства к их устранению.
Указав выше недочеты вненаучной мысли в ее определении руководящих мотивов человеческой жизни, посмотрим, какое содержание будет вложено в ее верховный Λόγος мыслью, остающеюся на почве естествознания. <...>
Сравним движения, вызываемые освобождением солнечной энергии, запасенной ростом леса, в лесном пожаре и – когда этот лес сжигается в паровом двигателе.
В первом случае мы получаем беспорядочные движения потоков горящих газов, постепенно излучающих и разменивающих свою энергию на движения мелкие, хаотические. В паровом двигателе, как плохо он ни был устроен, мы имеем движение более стройное. В понятие парового двигателя включим все условия его функционирования. Чем обусловливается достоинство машины?
Оно тем выше, чем большее количество подводимой энергии может преобразовываться в стройные формы движения и чем большей стройностью, т.е. связностью, отличаются эти формы. Условием такого достоинства является стройность самой машины и стационарность ее действия. Двигатель с движением периодическим будет более стройным. Условия стройной работы истопника, стройного течения химических процессов, дающих машине энергию, стройные условия смазки, чистки, регулирования, сигнализации и т.д. способствуют стройности движения. Стройность движения не характеризуется определенной формой. Она обусловливается только большей или меньшей связью последовательных элементов движения.
Как относится стройность к внешнему миру?
Представим себе локомотив, сорвавшийся с рельсов. Он продолжает еще свой ход, двигаясь по шпалам, раздробляя, разбрасывая их на своем пути. Таким образом, стройность, окруженная беспорядочными случайностями, уже несет в себе элемент борьбы. Чем стройнее машина, тем больше имеется в ней приспособлений, обеспечивающих эту стройность от случайностей. Таким образом, осуществление стройности уже вооружает машину приспособлениями для борьбы за существование, которая в данном случае есть не что иное, как борьба за стройность. Дифференцирование органов машин обусловливает не только большую стройность, т.е. связность двжениий, но и их большее разнообразие. Орган, который может описать любую непрерывную кривую, опишет и многоугольник, н наоборот. Стройность тем выше по своему качеству, чем она устойчивее. Так как среди вредных случайностей мелкие встречая чаще крупных, то механизм тем более сохранит свою стройно чем он приспособленное к мелким движениям. Более дифференцированная рука человека в состоянии обходить такие препятствия которые не могут быть обойдены лапой медведя.
Рука человека способна производить движение, стройное только в своих крупных чертах, но и в мельчайших деталях. пример детальной стройности может быть приведено наше письмо, голосовой аппарат, дающий членораздельную речь и гармоничное пение. Примеры ритма и периодичности мы могли бы извлечь не только из царства животных, но и из мира растений, в особенности в его тропических формах. Чем совершеннее стройность, чем глубже проникает она в механизм, тем больше поводов к ее борьба с нестройностями: борьба с миганием пламени, перебоем звука, утомляющей пестротою цветов и т.д. Стройный механизм стремится создать обстановку, находящуюся с ним в резонансе, а не перебое. Выражаясь другими словами, он приводит все окружающее в гармонию со свойственным ему чувством красоты, подчиняет это окружающее своим идеалам.
Так как степень стройности может быть чрезвычайно разнобразна, то невозможно указать те границы, которые отделяли стройность от нестройности на нашей планете.
Но так и должно быть в мире с беспредельным числом случайностей. В нем невозможно установить точные разграничения, и характерным признаком события мы должны считать признак тех объектов, в которых событие развивается всесторонне и наиболее полно. Руководясь таким правилом, мы получим формулу: стройность есть необходимый признак живой материи.
Эволюция живой материи в общих чертах увеличивает количество и повышает качество стройностей в природе. По отношени человеку эволюция выражается, между прочим, тем, что он вводит в круг своих стройностей растительное и животное царство, в своих орудиях и машинах распространяет эти стройности на неорганизованную материю и борется во имя этих стройностей со случайным распорядком событий в природе.
Стройность не может осуществляться без регулятора, и таким регулятором в высших типах живого является организованная стройных процессов мысли и волевых импульсов нервная система. Мы имеем слово для выражения стройности в духовном мире; это слово – красота. В высших типах живого красота является защитницею жизни и указателем поведения. Когда живое получает из внешнего мира через свои органы чувств нестройные сигналы, оно чувствует испуг, или предвидит опасность, оно осознает возможность неожиданностей и удаляется из того места или той обстановки, которая посылает ему эти нестройности.
Локомотив, сорвавшийся с рельсов, постепенно теряет стройность своего движения. Управляющий им машинист по нарушению стройности, или, что то же, по нарушению красоты в поведении локомотива, узнает о грозящей опасности и останавливает его движение, чтобы исправить путь. То же делает или должен делать человек в своей жизни. Чувство красоты имеет в живом всевозможные градации, которые, избегая антропоморфных образов, все укладываются в определении стройности. Ее элементы уже заложены и в органы чувств, так что все нестройное вызывает в них болезненное или неприятное ощущение. Вот этот заложенный в нас темп красоты и связанное с ним влечение к восприятию определенного ряда ощущений становится, в свою очередь, источником миража, полезного в смысле защиты жизни, но являющегося источником заблуждений, задерживающих эволюцию индивида на тех ступенях его развития, когда условием его дальнейшего прогресса является истинное понимание вещей. На этой стадии стоит современный интеллигентный человек, и своевременно остановиться на ошибочном синтезе ощущений, даваемых чувствами, настроенными на восприятие красоты.
Этот синтез рождает призраки, которые человек высоко возносит над собою, не подозревая, что они ни более, ни менее, как сам человек. Благодаря им центр тяжести судеб человеческих переносится за пределы человечества, они становятся объектами религиозного экстаза, и им одновременно приписываются, как мы увидим, несовместимые вещи – могущество космоса и интерес к жизни личности, индивида, доходящий до взаимного общения.
Чтобы выяснить эту мысль, я остановлюсь на анализе того восторга, который возбуждают в нас красоты природы и сообщают нам настроение, вырывающее хвалебные гимны из нашей груди.
Читатель будет удивлен утверждением, что способность восторгаться природой создавалась ею в высокой степени экономно, расчетливо и даже с долей лукавства. Я позволю себе изобразить иносказательно процесс наделения живого органами чувств, т.е. теми инструментами, которые дают возможность живому различать красивое от некрасивого и тем устанавливать вехи на своих жизненных путях.
Беспредельным количеством самых разнообразных машин, действующих и недействующих, целых и разбитых, беспредельных количеством материалов, из которых могут быть построены машины и их части, заполнено хаотически и притом сплошь здание беспредельных размеров. Хозяин этого хаотического имущество ожидает гостя и намерен привести его в восторг своими владениями Прежде всего его гость есть индивид, который должен двигаться между нагроможденными вещами; этой новой вещи нужно дать место, дать простор ее движениям. Но хозяину не под силу растащить принадлежащий ему хаос и очистить место для движений гостя. Он придумывает для пришельца одежду, которая делала бы для него проницаемыми целый ряд предметов и создавала бы ему мираж пустоты, в которой он может свободно двигаться. Открыв таким образом свое имущество для странствований пришельца, хозяин задумывается над способом сделать это путешествие привлекательным. Экономный и расчетливый, он тотчас же замечает, что сделать привлекательными беспредельное количество безразличных вещей на беспредельном протяжении своих владений потребовало бы громаднейшей затраты сил, и притом частью бесполезной, потому что гость не сможет побывать везде на его территории. Проще построить и снабдить одежду путника такими талисманами-инструментами, которые делали бы ему привлекательными те вещи, с которыми он приходил бы в соприкосновение. Эти инструменты были бы, однако, чрезвычайно сложны, если бы им была поставлена задача делать привлекательной бо́льшую часть вещей, принадлежащих хозяину. Он сводит свою работу до возможной простоты и возможной экономии сил и творчества. Он увеличивает до чрезвычайных пределов способность одежды делать вещи проницаемыми для странника и упрощает инструменты до такой степени, что путник приводится ими в прикосновение только с минимальным числом вещей.
Таким образом, гостю, вступающему во Вселенную, последняя открывается как капля материи и океан пустоты! Красота, которую он переносит на материю, в сущности есть красота создавшейся в нем картины, не переходящая за пределы его одежды с ее инструментами.
Перед человеком, восторгающимся красотами природы, перед весело щебечущей и порхающей птицей или широкою грудью дышащим и быстро несущимся конем расстилается один мираж. Над толпой, пораженной красотами неба и склонившейся ниц, воспевая его величие, царит не свет, не мрак, а одно безразличие. Живому, за исключением человека, навсегда останется неизвестным окружающий его и спасительный для его жизни обман. Человек должен его понять, потому что миража, создаваемого природой в его чувствах, уже недостаточно для удовлетворения его потребностей, .для сохранения и руководства его жизни. Человек должен помнить, что, поклоняясь красотам природы, он себе поклоняется, что его любовь к природе есть любовь к себе самому.
Человек заменяет спасительный обман, который благодаря тому, что он все-таки обман, причинил немало страданий человечеству, научным знанием: последнее не только открывает нам смысл наших ощущений, но извлекает из них бо́льший объем познания, чем тот, который дается деятельностью наших органов чувств в естественных, а не в искусственных условиях, создаваемых наукой. В мире все вещи связаны между собою или прямо, или посредственно. Если A не действует прямо на B, то найдется C, на которое действуют и A и B. И через явления в этом C, В может познавать A. Мы обнаруживаем, например, область электрических и магнитных явлений, не обладая для их ощущения специальными органами. В природе существует бесчисленное множество тонов или, как мы образно выражаемся, колебательных, периодических движений, которые не могут быть восприняты ни ухом, ни глазом. Но наука построила те посредствующие вещи или инструменты С, которые дают нам возможность и глазом и ухом открывать то в имуществе хозяина, чего он не предполагал делать нам известным и в знании чего не нуждались наши далекие предки.
Я говорил о скупости хозяина, одарившего нас органами чувств с ограниченным кругом ощущений. Но наша организация, обусловливающая индивидуальность жизни, такова, что и эта скупость является щедростью. В самом деле, наши ощущения должны быть ограничены не только в качестве, но и во времени в целях самой жизни. Излишнее изобилие ощущений может быть пагубно. Мы снабжены органами, дающими нам возможность прекращать известного рода ощущения: так, веко дает нам средство устранять действие света; сон – явление, указывающее на периодичность нашего сознания, – дает нам возможность совершенно устраняться от восприятия ощущений. Мы получаем впечатления от целого ряда сил, непосредственно не действующих на наши чувства, при помощи научных инструментов; устраняя последние, мы защищаем наше восприятие от ощущений, соответствующих новым для наших чувств областям природы.
Если бы все сигналы природы оказывали на нас воздействие и воспринимались нами, то, вне сомнения, они не могли бы служить к развитию нашего интеллекта или сознания, так как в результате очень быстро, после начала процесса жизни, наступило бы переутомление индивидуума. Поэтому-то пределы ощущаемых колебаний, т.е. звуков и эфира, ограничены. Наибольшее количество сигналов несется темными лучами, для восприятия которых в отдельности природа не одарила нас специальными органами. Для них и многого другого, нам неизвестного, существует одно общее неопределенное ощущение, которое частью чувствуется нами как тепло и холод, а по существу представляет своего рода сумерки, среди которых мы не отличаем отдельных контуров, – тот фон, тот климат, в котором мы живем и раздражения которого в большинстве случаев или отсутствуют, или не доходят до нашего сознания.
Но, несмотря на ограничение природою круга наших ощущений, на предоставляемые нам ею способы защиты от их излишеств, несмотря на громадные усилия, потраченные природой в течение миллионов лет на выработку плана нашего организма, в нем накопляются источники вредных сопротивлений его функционированию; он все-таки изнашивается, и самое драгоценное свойство жизнедеятельности – сознание – есть не только явление периодическое, но вместе с тем затухающее со временем, подобное затухающим колебаниям маятника, не поддерживаемым падением гири или упругостью пружины. Человек всю свою жизнь носит в себе непримиренным факт, с которым он неизменно борется в создаваемых им механизмах, увлекаясь в этой борьбе до стремления осуществить невозможное – машину вечного движения параллельно создаваемому им миражу perpetuum mobile*64 в своем духовном мире!
На почве этих дисгармоний наука и чувство солидарности создают искусственные меры защиты и совершенствования человеческой организации, и только создаваемое ими и передаваемое от поколения к поколению, не затухающее, а возрастающее, осуществляет perpetuum mobile в истории человечества.
Приведенные рассуждения еще в несколько туманных чертах намечают положение человека и живого во Вселенной. Оно станет ясным, когда мы полнее взвесим картину, открывающуюся нам во Вселенной и которую мы обозначили только фразой – капля материи и океан пустоты.
<...> при наличном распорядке Вселенной материя представляет в ней в высокой степени маловероятное событие.
Наша Земля составляет только 1/300 000 долю массы планетной системы. Жизнь, протекающая на поверхности Земли, захватывает еще меньшую долю материи Земли. Если материя есть маловероятное событие во Вселенной, то какую же ничтожно малую вероятность представляет собою осуществление жизни!
«Жизнь есть событие Вселенной, имеющее ничтожно малую вероятность». В этом мы находим объяснение неуловимости в мертвой материи тех признаков, редким сочетанием которых творится жизнь. Всякому маловероятному событию грозят чрезвычайные опасности. Его сохранение требует борьбы.
Во имя этой борьбы совершается тяжкая и кипучая работа естествознания.
Определяется и отношение к жизни необъятного колосса, именуемого космосом. Для него жизнь вообще, тем более жизнь индивида, есть une quantité négligeable*65.
Жизнь есть пасынок Вселенной.
Разумность, причинность, случайность суть понятия человеческие, и потому для возможно полного выяснения высказанного взгляда уместно описать естественные способы развития живого с антропоморфной точки зрения. С этой целью мы воспользуемся уже ранее употребленным приемом: я представлю себе опять Вселенную с хозяином, фабрикующим живое и следящим за судьбою своих фабрикатов. Этот хозяин есть символ сил, творящих, оберегающих и приспособляющих жизнь, – естественного подбора и борьбы за существование. Вот как изображается его деятельность естествознанием: его действия и поступки очень медленны; они продолжаются тысячи, десятки и сотни тысяч и даже миллионы лет. Хозяин ничего не может закончить сразу; в свою работу он вносит нескончаемые поправки, и одно дело не один раз противоречит другому.
Приведем несколько примеров. Хозяин вырастил змей, а также зверей, их поедающих. Приходится вводить поправку. В зубах одной из змеиных пород он проделывает полости и наполняет их ядом. Зверь не трогает более этой породы, но он начинает пожирать другую. Нужна новая поправка: в шкуре неядовитой змеи хозяин прокладывает систему трубок с пузырьками. Цель механизма такая: у змеи, испуганной приближением зверя, сжимаются мышцы, и вложенный в шкуру механизм подделывает ее рисунок и цвет под кожу ядовитой змеи. Испуганный зверь убегает прочь.
Хозяин вырастил гусениц и поедающих их птиц. Опять нужна поправка. Гусеницы дрессируются, и в них развивается искусство подражания ветвям и сучьям тех дерев, которые дают им пристанище и пищу. Птица обманута. Но увы, среди гусениц оказалась порода с такими толстыми индивидами, которые никоим образом не могли воспринять дрессировки и вытягиваться сучком. Хозяин приучает свое творенье выпячивать огромные глазчатые пятна, наводящие ужас. И улетает птица, дрожащая от страха перед испуганною тварью.
Не одним страхом, но и дружеством пользуется хозяин в починках своих произведений. Он произвел растеньице Мирмекодию и вырастил муравья-грабителя, поедающего его листву. Но, выращивая различные типы живого так же случайно, как случайно выпадает то или иное число очков на костях, которые мечутся игроком, хозяин вырастил и такую породу муравьев, которая враждует с муравьем-грабителем и питается соком растений. Хозяин учит этих муравьев проникать внутрь вздутий стволов растений и превращать их в свое жилище. Муравей-грабитель не трогает более растеньица, которое пышно распускает свои листья.
И всюду в живом одна и та же метода, и не довольно ли примеров, не довольно ли доказательств того, что с естественными приемами природы при всей их хитроумности не может уживаться разумная, планомерная человеческая жизнь. Не ясно ли, что проповеди, рисующие блаженство человека, перешедшего к естественному, упрощенному и освобожденному от науки состоянию, делают его игрушкой случайностей! В высокой степени остроумные естественные методы жизненных поправок должны быть подчинены принципам, рожденным среди случайностей, но несущим в себе наиболее счастливые, благоприятные шансы, как утверждает эпиграф настоящей статьи.
Что дают в конце концов естественные методы, предоставленные своему собственному течению?
Улетим нашею мыслью с сверхсветовою скоростью в пространство и уловим в нем картины, унесенные когда-то лучами света, отброшенными Землей в различные периоды ее истории. Мы увидим жизнь, бьющую ключом на нашей планете во всех царствах природы в течение миллионов веков. Спустимся на Землю и вскроем ее кору. Мы увидим совершенно иную, подавляющую картину: сплошное кладбище, и не обычное, привычное нам кладбище индивидов, а вымерших форм, типов, рас – от микроскопических до крупнейших. Кто тот браковщик, с таким широким размахом бракующий не индивиды, а выбрасывающий целые типы из обихода Земли?
Этот браковщик скрыт в самых методах изображенной мною естественной истории жизни, в ее рождении из случайностей, среди которых она является событием с чрезвычайно малой вероятностью!
Но живое, как все явления природы, развивается в сторону наиболее вероятных форм, наиболее способных к борьбе за жизнь, наиболее устойчивых для данного момента. И в этом направлении появился на Земле разум во всеоружии научного знания: это – последняя ставка живого! Последняя ставка!
Кто снимет с жизни облик преходящего момента в эволюции нашей планеты?
И с несомненностью открывается смысл нашего существования, Λόγος нашей жизни, величественная задача человеческого гения:
Охранение, утверждение жизни на Земле.
 С.Н. Булгаков, религиозный философ, богослов, экономист и публицист, родился 28 июня 1871 г. в семье священника, в маленьком городишке Ливны Орловской губернии. Как вспоминал сам Сергей Николаевич, он вырос «под кровом церковным», в атмосфере теплой, сердечной веры. Мальчиком был отдан в семинарию. Предполагалось. что как сын священника Сергей пойдет по стопам отца. Но сухое богословие не утоляло горячих вопросов духа, а рано пробудившаяся критическая мысль не удовлетворялась христианской апологетикой. Раздражало и обрядовое благочестие. И вот на последнем курсе Булгаков покидает семинарию, поступает в последний класс гимназии, а по окончании ее – в Московский университет. Он жаждет посвятить себя спасению отечества от «царской тирании». Поэтому избирает юридический факультет, мало отвечавший его душевному и духовному складу, и самоотверженно штудирует политэкономию. Впоследствии свою юношескую судьбу он сравнит с судьбой Н.А. Добролюбова, русского критика-демократа середины XIX в., тоже семинариста, порвавшего со своей средой; с судьбами множества других представителей русской интеллигенции, отвергнувших аскетизм и догматизм официального православия, жаждавших реального дела.
С.Н. Булгаков, религиозный философ, богослов, экономист и публицист, родился 28 июня 1871 г. в семье священника, в маленьком городишке Ливны Орловской губернии. Как вспоминал сам Сергей Николаевич, он вырос «под кровом церковным», в атмосфере теплой, сердечной веры. Мальчиком был отдан в семинарию. Предполагалось. что как сын священника Сергей пойдет по стопам отца. Но сухое богословие не утоляло горячих вопросов духа, а рано пробудившаяся критическая мысль не удовлетворялась христианской апологетикой. Раздражало и обрядовое благочестие. И вот на последнем курсе Булгаков покидает семинарию, поступает в последний класс гимназии, а по окончании ее – в Московский университет. Он жаждет посвятить себя спасению отечества от «царской тирании». Поэтому избирает юридический факультет, мало отвечавший его душевному и духовному складу, и самоотверженно штудирует политэкономию. Впоследствии свою юношескую судьбу он сравнит с судьбой Н.А. Добролюбова, русского критика-демократа середины XIX в., тоже семинариста, порвавшего со своей средой; с судьбами множества других представителей русской интеллигенции, отвергнувших аскетизм и догматизм официального православия, жаждавших реального дела.
Девяностые годы прошлого века были временем распространения в России учения К. Маркса. Сергей Николаевич становится одним из активнейших «легальных марксисток», печатается в их журналах «Начало» и «Научное обозрение». Первая его книга «О рынках при капиталистическом производстве» (1897) была даже одобрена Лениным. Оправдывая свое увлечение марксизмом, С. Булгаков писал, что эта доктрина «худо-бедно, но объясняет человеку его самого», отводит ему определенную роль в истории, дает цель жизни и деятельности. Но в самом начале нового столетия, после двухлетнего пребывания за границей, куда молодой ученый направился для работы над диссертацией, начинается перелом в его мировоззрении, тот поворот «от марксизма к идеализму», который определит всю его дальнейшую судьбу.
Уже в магистерской диссертации «Капитализм и земледелие» (1900) С. Булгаков критикует взгляды Маркса по аграрному вопросу, защищая жизнеспособность мелких крестьянских хозяйств в условиях капитализма. А в период работы профессором политехникума и приват-доцентом университета в Киеве пишет ряд статей, в которых вопрос о социальном идеале, о смысле прогресса, о месте человека в мире постепенно смещается в область религиозной философии. Вскоре он составит сборник этих работ, который в 1903 г. выпустит в Петербурге под характерным названием «От марксизма к идеализму».
В Киеве С. Булгаков сближается с Н. Бердяевым, пережившим к тому времени такой же перелом. С 1904 г. они вместе редактируют журнал «Новый путь», а затем – «Вопросы жизни». Осенью 1906 г. Сергей Николаевич переезжает в Москву и становится активным участником религиозно-философских собраний. Сотрудничает в журнале «Русская мысль», избирается депутатом 2-й Государственной думы. Преподает в Московском университете, основывает религиозно-философское издательство «Путь». Принимает участие в церковном соборе по выборам Патриарха всея Руси. Вера не удаляет его от общественной деятельности; напротив, он пытается обосновать хозяйственную, культурную активность человека с религиозной точки зрения, ввести ее в христианскую концепцию развития мира. Ведь христианство – это не только нравственная проповедь, но и деятельность, и творчество. По мнению Булгакова, должны быть раскрыты «онтологические, космологические» стороны христианства, его мироустроительный смысл.
Проблема связи христианства и хозяйства, христианства и культуры ложится в основу докторской диссертации С. Булгакова «Философия хозяйства» (1912), а затем развивается им в философско-богословском трактате «Свет невечерний» (1917). Значима она и в позднем творчестве мыслителя, в частности в богословской трилогии «О Богочеловечестве» («Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»), написанной уже в изгнании, в 1933–1945 гг.
Именно в «Философии хозяйства», главу из которой вместе с частью статьи «Душа социализма» (1931) мы предлагаем читателю, С. Булгаков оказывается особенно близок идеям русского космизма. Центральным понятием здесь становится понятие Софии, воспринятое от В. Соловьева и П. Флоренского (с последним в те годы Сергей Николаевич интенсивно общается). Мир теперешний, мир падший, не отвергнут Богом окончательно, в Боге содержится идеальный образ этого мира, каждой вещи в нем, каждого человека, «грядущего в мир»; содержится в красоте, славе и нетлении. Этот совокупный идеальный образ мира и человека и есть София Премудрость Божия, которая «реет» над мирозданием, излучает в него божественный свет, живой нитью связывает его с Богом. София – корень всех вещей и в то же время некая их идеальная норма. Она является залогом полного восстановления образа Божия в природе и в человеке. В этом восстановлении падшего и погибшего – смысл мировой истории. В своем творчестве, в своей хозяйственной деятельности человечество возвращает Вселенную в ту благодать эдема, в которой она пребывала до грехопадения.
Впрочем, с таким «сценарием» истории лишь как возвращения мира к прежнему райскому бытию не вполне согласился Н. Бердяев. По его мысли, человек не только восстановляет этот мир, но и участвует в его творении. Мировой процесс, утверждает он в «Смысле творчества», это продолжающееся творение, как бы «восьмой» его день, завершением которого в конце времен и будет Царствие Небесное.
Летом 1918 г. С. Булгаков принимает сан священника. Путь «блудного сына», «изменника алтаря» (так он себя не раз называл) заканчивается возвращением «в отчий дом», в «объятия Отца».
Из Москвы о. Сергий перебирается к семье в Крым. Преподает политэкономию и богословие в Симферопольском университете, служит протоиереем в Ялтинском соборе. Вернуться в Москву уже не удалось. В конце 1922 г. он был выслан из страны. Некоторое время промаялся в Константинополе, оттуда переехал в Прагу, а затем – в Париж, где в 1925 г. учредил Православный богословский институт. Почти 20 лет, до самой смерти, о. Сергий был преподавателем и деканом этого института.
Последние годы жизни сложились трудно. В 1939 г. ему оперировали рак горла. И в том же году началась война. В оккупированном Париже о. Сергий пишет книгу «Расизм и христианство» (1942), противопоставляя в ней принципу расы принцип личности. уникальности каждой человеческой жизни. Умер С.Н. Булгаков 13 июля 1944 г. от инсульта.
Н. Бердяев в своей книге «Русская идея» назвал С. Булгакова центральной фигурой русского религиозно-философского ренессанса, подчеркнув его устремленность к идее Богочеловечества, к новой религиозной эпохе, веру «в божественное начало в человеке».
Мы определяли до сих пор содержание хозяйства как тяжбу между жизнью и смертью, как восстановление связи между natura naturans и natura naturata*67 или разрешение окаменевших и безжизненных продуктов природы в производящие их силы, как организацию природы. Путем хозяйства природа опознает себя в человеке.
Хозяйство есть творческая деятельность человека над природой; обладая силами природы, он творит из них что хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, новые чувства, новую красоту – он творит культуру , как гласит распространенная формула наших дней. Рядом с миром «естественным» созидается мир искусственный, творение человека, и этот мир новых сил и новых ценностей увеличивается от поколения к поколению, так что у нашего поколения, особенно сильно захваченного этим творческим порывом, теряются уже всякие границы при определении возможного. «Мир пластичен», он может быть пересоздан, и даже на разные лады. Наши дети будут жить уже при иных условиях, нежели мы, а о внуках мы даже не решаемся и загадывать. Все стало текуче, как будто окаменелые, застывшие продукты natura naturata растаяли или тают один за другим на наших глазах, разрешаясь в силы, natura naturans, из которых может быть по желанию получаема различная natura naturata. Мы живем под впечатлением нарастающей мощи хозяйства, открывающей безбрежные перспективы для «творчества культуры». И для того, чтобы с философской сознательностью отнестись к этому, несомненно, грандиозному и величественному факту, который загадкой Сфинкса стоит пред современным Эдипом, не то как зловещее знамение, не то как пророческое предзнаменование, нам надо, прежде всего, ответить себе: что же представляет собой это человеческое «творчество» культуры и хозяйства, как и какой силой творит здесь человек? Есть ли это начало совершеннолетия человечества, вступление его в свои права над природой, им некогда утерянные? Имеет ли это космическое значение, знаменуя начало новой эры в истории мироздания? Или же это «чудеса Антихриста», знамения, чтобы соблазнить верных, фокуснический обман, воровство у Бога Его творения с заключающейся в нем силою, чтобы этой украденной энергией обольстить жалкое человечество? <...>
Итак, каков же источник человеческого творчества в хозяйстве, в культуре, в науке, да и в искусстве, в чем вообще его тайна? Творчество требует для своего существования двух условий: наличности, во-первых, замысла, свободы изволения, и, во-вторых, мощи, свободы исполнения. Над первым условием пока не будем останавливаться, предполагая исследовать этот вопрос ниже. Впрочем, очевидно само собой, что творчество вне свободы есть contradictio in adjecto*68, ибо несвободное творчество есть не творчество, но механизм, работа машины. Всякое творчество требует труда, усилий, воли, напряжения, актуальности, а все это и есть то, в чем выражается самочинность, свобода, а-se-изм. Для того, чтобы хотеть, очевидно, нужна личность, это – предпосылка персонализма. Для того же, чтобы творить, надо не только хотеть, но и мочь, надо ставить себе выполнимую задачу, иначе творчество окажется или невозможным, или недовершенным. Здесь мы подходим к центру интересующей нас проблемы о природе хозяйственного творчества. Очевидно, что человек не обладает всемогуществом, способностью творить из ничего все, чего захочет. В этом смысле человек вообще не может творить, сам будучи тварью. Если он может творить, то не из ничего, а из созданного уже (или предвечно существующего, по мнению пантеистов) мира. В нем он может опечатлевать свои идеи, воплощать свои образы. В нем он может находить ответы на свои вопросы, вопрошать его экспериментом и давать ему свои определенные директивы (к чему сводится вся техника). И из совокупности всего этого образуется новый мир культуры, создаваемый в хозяйстве. Откуда же рождаются в человеке эти образы, эти идеи-модели? <...>
Этот <...> вопрос <...> разрешается с точки зрения вышераз-витого учения о трансцендентальном субъекте хозяйства – Мировой Душе*69. Человечество есть и вневременно остается единящим центром мира, в его предвечной гармонии, красоте богозданного космоса. Мир, вверженный в процесс, в пространстве и времени, в истории, не отражает уже этой предвечной гармонии, этого «добро зело» бытия, стянутого к своему центру – умопостигаемому Человечеству, скорее, он даже закрывает ее своей разорванностью и дисгармонией. Но он не может, метафизически не может, вполне от него оторваться, ибо здесь лежат корни мира эмпирического; natura naturata с своей мертвенной маской есть все-таки создание natura naturans, и хотя in actu*70 она от нее обособилась, но всегда сохраняет in potentia*71 свою связь с ней. Поэтому и трансцендентальный субъект хозяйства в его эмпирическом выражении, т.е. историческое человечество, а в нем и каждая личность, онтологически причастны Софии, и над дольним миром реет горняя София, просвечивая в нем как разум, как красота, как... хозяйство и культура. Между миром, как космосом, и миром эмпирическим, между человечеством и Софией, существует живое общение, которое можно уподобить питанию растения из его корней. София, принимающая на себя космическое действие Логоса, причастная Его воздействию, передает эти божественные силы нашему миру, просветляя его, поднимая его из хаоса к космосу. Природа человекообразна, она познает и находит себя в человеке, человек же находит себя в Софии и чрез нее воспринимает и отражает в природу умные лучи божественного Логоса, чрез него и в нем природа становится софийна. Такова эта метафизическая иерархия.
Этим дается ответ и на вопрос о природе человеческого творчества. Человеческое творчество – в знании, в хозяйстве, в культуре, в искусстве – софийно. Оно метафизически обосновывается реальной причастностью человека к Божественной Софии, проводящей в мир божественные силы Логоса и по отношению к природе как продукту, имеющей значение natura naturans. Человек может познавать природу и на нее воздействовать, «покорять» ее, быть ее «царем» только потому, что он носит в себе, хотя и в неразвернутом еще виде, потенциально, компендиум всей природы, весь ее метафизический инвентарь, и, в миру его развертывания, актуализирования, он и овладевает природой. Знание есть припоминание, как об этом учил еще Платон – не в теософском смысле, не припоминание того, что происходило в предшествующих жизнях, в ряду перевоплощений, – но в смысле метафизическом. Оно есть выявление того, что метафизически дано, оно в этом смысле не есть творчество из ничего, но лишь воссоздание, воспроизведение данного, сделавшегося заданным, и это воссоздание становится творчеством лишь постольку, поскольку оно есть свободное и трудовое воспроизведение. Человеческое творчество не содержит поэтому в себе ничего метафизически нового, оно лишь воспроизводит и воссоздает из имеющихся, созданных уже элементов и по вновь находимым, воссоздаваемым, но также наперед данным образцам. Творчество в собственном смысле, создание метафизически нового, человеку, как тварному существу, не дано и принадлежит только Творцу. Тварь же существует и действует в тварном мире, она не абсолютна и потому метафизически не оригинальна. Человек свободен – а постольку и оригинален – лишь в направлении своих сил, в способе использования своей природы, но самую эту природу, основу своего я, он имеет как данную, как сотворенную. Человеческое творчество создает не «образ», который дан, но «подобие», которое задано, воспроизводит в свободном, трудовом, историческом процессе то, что предвечно есть, как идеальный первообраз. И бунт твари против Творца, уклон сатанизма, метафизически сводится к попытке стереть именно это различие, стать «как боги», иметь все свое от себя. <...>
Итак, хозяйство софийно в своем метафизическом основании. Оно возможно только благодаря причастности человека к обоим мирам, к Софии и к эмпирии, к natura naturans и natura naturata. Человек есть, с одной стороны, потенциальное все, потенциальный центр антропокосмоса, хотя и не реализованного еще, но реализуемого, а с другой – он есть продукт этого мира, этой эмпирии. Для него – потенциально – вся природа прозрачна и снимает свои погребальные пелены, но вместе с тем он и сам ими повит, окован тяжелою космическою дремой. Хозяйство софийно в своем основании, но не в продуктах, не в эмпирической оболочке хозяйственного процесса, с его ошибками, уклонениями, неудачами. Хозяйство ведется историческим человечеством в его эмпирической ограниченности, и потому далеко не все действия его отражают на себе свет софийности. Однако остаться совершенно вне ее оно не может ни по тем энергиям, которые в трудовом процессе развивает человечество, ни по задачам своим, которые можно условно обозначить как победу культуры над природой, или очеловечение природы. В этом смысле природа в своих основах есть уже nata*72, создана, однако она еще воссозидаема – есть natura, и, насколько воссозидание это совершается через культуру, можно сказать, что культура воссозидает натуру – обычное противопоставление натуры и культуры этим снимается.
Метафизические основы этого процесса полагают ему определенную границу. Человек не может умножать творящих сил природы, распространять свое влияние и на natura naturans на источник живых сил. Это значит, что человек не может хозяйственным путем, т.е. трудовым усилием, творить новую жизнь. В этой неспособности к творчеству жизни лежит абсолютная граница для человека как твари. Жизнь дана в мире, она несводима к его элементам и необъяснима из них. Она изошла из внемирного Источника Жизни, Бога Живых, не ведающего зависти и творящего жизнь47. Она сотворена творческим глаголом Божиим, излиянием божественной любви. <...>
Жизнь создается поэтому не хозяйством, не трудом, но лишь рождением, т.е. передачей и осуществлением изначально заложенной жизнетворческой силы. Нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть может, по мнению наиболее смелых мыслителей. воскрешать угасшую жизнь, но творить жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа для всей natura naturata.
|
И под личиной вещества бесстрастной Везде огонь божественный горит... |
Задача космического и исторического процесса в том и состоит, чтобы этот огонь проник, согрел, осветил всю тварь, всю природу. Но человеку не надо заботиться о создании самого этого огня, ибо это было бы равносильно смешному и пустому притязанию -- породить самого себя. Миротворение в основах своих уже закончено. «Бог почил от дел Своих»*74, мир определен в своей софийности, в своих потенциальных элементах, которые для человека в его историческом труде даны как неизменная основа. Но ложна даже самая мысль – твари творить новую жизнь, как будто это нужно и возможно, как будто Источник Жизни оставил хотя что-нибудь, достойное бытия. Им неорошенным. Творить жизнь невозможно и потому, что все бытие уже есть жизнь, ничего неживого вовсе и нет, и лишь тяжелый кошмар наложил на бытие это оцепенение, эту мертвую маску. Смерть есть в мире; да, все родящееся умирает, но есть ли эта смерть подлинная и окончательная смерть, а не новое лишь рождение или перерыв и отсрочка жизни? Ведь об этом, пока мир стоит на утвержденных Творцом основаниях, последнее слово даже и не может быть сказано. Притом смерть косит жатву жизни, но не самую жизнь. Индивид умирает, вид остается. Это не есть, конечно, бессмертие или победа над смертью, как в этом хотят уверить нас натуралисты, но это свидетельствует о слабосилии смерти, об ее условности: ее сил не хватает на то, чтобы предотвратить зарождение жизни на Земле, хотя и настолько трудное, подверженное стольким опасностям, или совершенно прервать начавшуюся жизнь. Смерть становится лишь функцией жизни. Смерть есть условие процесса, исторического развития, в которое, благодаря своей относительности и временности, неизбежно вовлекается жизнь. Но смертью же и разбивается эта хрупкая форма.
Содержанием хозяйственной деятельности человека является не творчество жизни, но ее защита, воссоздание живого и натиск на омертвелое. Можно допустить в пределе, что все имеет ожить в результате хозяйственного труда и жизнь будет восстановлена во всей своей мощи, однако и это может быть допущено не в том смысле, чтобы она была создана человеком, но только им воссоздана. Как учил Н.Ф. Федоров, этот мир хотя и не есть еще лучший из возможных миров, но он может и должен стать таковым, ибо он потенциально наилучший. Очевидно, что при обсуждении этого вопроса неизбежно проявляется и основное различие и противоположность двух религий: человекобожия, для которого человек не есть тварь, но есть творец, и христианства, для которого человек – тварь, но, как сын Божий, получает задачу воссоздания, хозяйствования в творениях своего Отца. Здесь мы упираемся в основное религиозное самоопределение – к Богу или против Бога, которое есть дело свободы и не допускает никакого обоснования.
Понятие софийности хозяйства нуждается еще в дальнейшем разъяснении. Если мы установляем софийность хозяйства как внутреннюю движущую силу, как его основание, то возникает вопрос о характере этой связи Софии с хозяйством. Почему наша эмпирическая действительность остается чужда софийности и оказывает ее влияниям пассивное или даже активное противодействие? Иррациональность бытия, а постольку и его антисофийность, представляет собой господствующий факт жизни, софийность сводится при этом лишь к постулату, осуществляемому в процессе. В чем можно искать объяснения такого состояния мира, какая гипотеза (конечно, не научная, но метафизическая) делает его понятным?
Мир, который в своей эмпирической действительности лишь потенциально софиен, актуально же хаотичен, в своем вневременном бытии есть сама София, сияющая божественным светом Логоса, без которого «ничто же бысть, еже бысть»*75 (Иоан. 1, 3). Мир удален от Софии не по сущности, но по состоянию. Хотя он и «во зле лежит», хотя законом жизни является борьба и дисгармония, но и в этом своем состоянии он сохраняет свою связность, в нем просвечивают лучи софийные, отблески нездешнего света. Хаотическая стихия связана в мировое единство, облечена светом, в ней загорелась жизнь, и в конце концов появился носитель Софии – человек, хотя в своем индивидуальном и самостном бытии и вырванный из своего софийного единства, но не оторвавшийся от своего софийного корня. Состояние мира хаокосмоса, в стадии борьбы хаотической и организующей силы, понятно лишь как нарушение изначального единства Софии, смещение бытия со своего метафизического центра, следствием чего явилась болезнь бытия, его метафизическая децентрализованность; благодаря последней оно ввержено в процесс становления, временности, несогласованности, противоречий, эволюции, хозяйства. Мир эмпирический отделяется от мира софийного в его вневременном сиянии, в его полной и абсолютной гармонии, при которой все находит себя во всем, а это все находит себя в Боге, вневременным же метафизическим актом, который в религии носит название первородного греха, грехопадения Адама, а с ним и всей твари, «покорившейся суете». Эта идея не только вытекает из непосредственных показаний религиозного опыта, но и представляет собой необходимый постулат умозрения, как это с несравненной гениальностью показано Шеллингом*76 в его произведении «Философские исследования о сущности человеческой свободы», а равно и в других произведениях второго периода, а затем самостоятельно развито Вл. Соловьевым (в «Чтениях о богочеловечестве», так же и в других произведениях). Основание мирового процесса заключается в свободе как основе миротворения, как сущности образа Божия, данного Творцом твари. София, предвечное человечество, как душа мира, содержа в себе все, является единящим центром мира, лишь поскольку она сама отрекается от своей самости, полагает центр свой в Боге. Но она свободна сместить этот центр, она свободна хотеть от себя, обнаружить самость, составляющую темную основу ее бытия, ее слепую и хаотическую волю к жизни (которую только и знает Шопенгауер*77). На этот первобытный хаос, первоволю или первоматерию, представляющую бесформенное влечение к жизни, наброшено одеяние софийности, но он несет его только как покров. В этой изначальной самости заложена основа личности с ее свободой, но здесь же и корень своеволия48.
Для философии хозяйства «метафизическое грехопадение» есть гипотеза, принятие которой проливает свет на основные ее проблемы, поскольку объясняет мировой и в нем исторический процесс. Конечно, это «событие» совершилось не во времени, и тщетно стали бы мы искать его следов в анналах истории или палеонтологических раскопках, где теперь ищут следов доисторического человека. Есть лишь один след, один факт, молчаливо, но красноречиво свидетельствующий о том, чего последствием он только и мог явиться: этот живой памятник происшедшего раньше самого времени есть мировой и исторический процесс со всеми его особенностями. Если ученые по следам извержения, вулканическим породам и под. заключают о существовании вулкана и вообще от следствий восходят к причинам, то вся природа, вся история, вся противоречивость человеческого сознания, с его антиномизмами, свидетельствуют, что они явились следствием метафизической катастрофы.
Итак, подобно тому как у Платона различается Афродита Небесная и Афродита Простонародная*78, так же различаются и София Небесная, вневременная, и София эмпирическая, или человечество метафизическое и историческое, и живую связь между ними, которую Платон знал только как Эрос, влечение, мы, христиане, знаем как Христа, воплотившийся Логос, тело Которого есть Церковь, София Небесная. Но Логос действовал в мире и до своего воплощения, или, как прекрасно выражается Шеллинг, Христос действует в истории и до Своего воплощения, хотя и не как Христос. Вселенская связь мира, постепенное возникновение жизни в разных ее видах до человека, первые шаги человека в истории – во всем этом Божественное Провидение, как спасительный фатум, действует в мировом процессе. И этот же логос вещей, вселенская связь мира, обосновывает собой и хозяйство, возводя в нем и через него мир на высшую космогоническую ступень. Бог отпускает на свободу созданный Им «добро зело» мир с человечеством, в своем духовном сознании вмещающим эту свободу. Мир в лице человечества должен свободно, от себя, в мировом процессе, путем разделения добра и зла и опыта добра и зла, самоопределиться в своей «активированной самости», ибо, по вещему выражению Шеллинга, «ничто в мироздании не может остаться двусмысленным». Он должен осознать себя в своей свободе, погрузившись в эту свою самость, а чрез то и в остроту жизни. Но и погрузившаяся в самость жизнь сохраняет божественную свою основу, остается софийной по своим силам, хотя и своевольной по их употреблению. София светится в мире как первозданная чистота и красота мироздания, в прелести ребенка и в дивном очаровании зыблющегося цветка, в красоте звездного неба и пламенеющего солнечного восхода (в лучах которого лицезрел ее в Сахарской пустыне юноша Вл. Соловьев – см. в стихотворении «Три Свидания»). И эти лучи софийности в природе именно и составляют притягательность «естественного» состояния, которое в действительности есть выше-естественное, сверхприродное по отношению к теперешнему состоянию твари. Здесь вместо единства выступает множественность, вместо внутренней связности – внеположность, с внешнею связью в пространстве и последовательностью во времени. То, что служит здесь связью, пространство и время, оно же вместе с тем и разъединяет. На мир, на тело Софии, ложится тяжелый покров механизма, закон всеобщей причинной связи, как универсальная форма связи сущего. Мир превращается в омертвевшую natura naturata, продукты которой соединены этой внешней механической связью. Все становится объектом, непроницаемым, чуждым субъекту. Первоначальная непосредственность, интуитивность созерцания, тожество знания и сознания, субъектобъектность бытия в Софии утрачивается и заменяется раздельностью субъекта и объекта с неизбежной дискурсивностью и отвлеченностью (теоретичностью) знаний. <...>
Становясь царством объектов, мир делается материальным. На него опускается косная тяжесть материального бытия с его безжизненностью. Если жизнь и сохраняется в нем, то только потому, что семена жизни, посеянные Творцом, неистребимы и метафизический переворот коснулся только состояния, но не состава мира, он мог погрузить его лишь в состояние мертвенности, обморочности, но не умертвить семена жизни. Но жизнь остается возможна только в уголках мира, где ее терпит мертвящая стихия «князя этого мира». Она поддерживается лишь в постоянной, неусыпной борьбе со смертью и существует как бы лишь с ее дозволения. Организующая сила жизни оказывается недостаточно велика для того, чтобы спасти свои произведения от разрушения. Смерть не является внутренней необходимостью для организма как такового, «смерти Бог не создал». Конечно, при данном метафизическом состоянии бытия смерть неизбежна и составляет необходимый акт жизни, шаг к ее окончательному возрождению и увековечению, <...>, но эта необходимость создается вследствие общей болезни бытия, являясь самым ужасным ее проявлением, и все-таки смерть есть «последний враг». Вместо солидарности, единства мировой жизни выступает ее особность. В мире загорается борьба за существование, и она есть закон жизни не только в животном, но и человеческом мире. Жизнь стиснута бездушным миром, и сначала еле тлеет ее огонь под пеплом. Актуальность жизни – сознание, способное вмещать все, стиснуто и ограничено почти до скотского состояния. Путь «от варварства к цивилизации», человеческая история, есть борьба за расширение сознания жизни, хотя и не во всю его беспредельную ширь. И, расширяя жизнь в себе, человек изливает ее и вне себя, оживляет и природу; пробуждая в себе дремлющие силы, он пробуждает их в природе. Будучи одно с природой, человек может воскрешать в себе замершие и как бы умершие силы не иначе как воскрешая и природу, превращая материю в свое тело, отрывая ее от окаменевшего скелета natura naturata и согревая ее своим огнем. Мир мертвой и косной материи разрешается в мире энергий, за которыми скрываются живые силы. Пелены постепенно спадают с трехдневного и смердящего уже Лазаря, который ждет повелительного слова: Лазаре, иди вон!
Защита и расширение жизни, а постольку и частичное ее воскрешение и составляет содержание хозяйственной деятельности человека. Это активная реакция жизнетворного принципа против смертоносного. Это – работа Софии над восстановлением мироздания, которую ведет она чрез посредство исторического человечества, и ею же устанавливается сверхсубъективная телеология исторического процесса. Мир, как София, отпавший в состояние неистинности и потому смертности, должен снова приходить в разум Истины, и способом этого приведения является труд, или хозяйство. Если самость в человеке может быть исторгаема и побеждаема лишь трудом его над самим собой или религиозным подвигом, то самость в природе побеждается трудом хозяйственным, в историческом процессе. Поэтому окончательная цель хозяйства – за пределами его, оно есть только путь мира к Софии осуществленной, переход от неистинного состояния мира к истинному, трудовое восстановление мира.
Но как цель хозяйства сверххозяйственна (а цель истории сверхъисторична), так и происхождение хозяйственного труда лежит за пределами истории и хозяйства в теперешнем смысле. Этому последнему иерархически и космологически предшествует иное хозяйство, иной труд, свободный, бескорыстный, любовный, в котором хозяйство сливается с художественным творчеством. Искусство сохранило в себе этот первообраз хозяйственного труда49. До своего грехопадения человек, будучи естественным владыкой мира в качестве проводника софийности, живого орудия Божественной Софии, вводится Богом в «сад эдемский» (в который, конечно, должна была превратиться при его посредстве вся Вселенная) и ему поручается «возделывать и хранить его» (Бытия, 2, 15). К человеку приводятся также все звери, скоты и птицы небесные, чтобы он нарек им имена, конечно, в соответствии природе каждого вида (Бытия, 2, 19-20). Начало хозяйственного действия и ве́дения («науки»), труда над реальным и идеальным объектом, относится, таким образом, к «райскому» состоянию, т.е. к самой метафизической сущности неповрежденных отношений человека к миру, когда человек еще не подвластен страху смерти, ибо ему доступно древо жизни, и не ведает угрозы голода: поэтому лишь во имя любви к творению Божию должен быть осуществляем им здесь этот труд познавания и действия. Можно говорить в этом смысле о «райском хозяйстве» как о бескорыстном любовном труде человека над природой для ее познавания и усовершенствования, раскрытия ее софийности. Но после грехопадения человека, религиозно соответствующего метафизической катастрофе всего космоса, смысл хозяйства и его мотивы изменяются. Тяжелый покров хозяйственной нужды ложится на хозяйственную деятельность и закрывает ее софийное предназначение, целью хозяйства становится борьба за жизнь, а его естественной идеологией – экономический материализм. Оно становится исполнением суда Божия над согрешившим человечеством: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой взят» (Бытия, 3, 19).
София правит историей как Провидение, как объективная ее закономерность, как закон прогресса (который так безуспешно стараются эмпирически обосновать позитивные социологи). Только в софийности истории лежит гарантия, что из нее что-нибудь выйдет, и она даст какой-нибудь общий результат, что возможен интеграл этих бесконечно дифференцирующихся рядов. То, что история не есть вечное круговращение или однообразный механизм или, наконец, абсолютный хаос, не поддающийся никакой координации, то, что история вообще есть как единый процесс, преследующий разрешение единой творческой задачи, в этом нас может утвердить только метафизическая идея об ее софийности, со всеми связанными с нею метафизическими предположениями. История организуется из внеисторического и запредельного центра. София земная возрастает только потому, что существует мать ее София Небесная, ее зиждительными силами, ее водительством. И если развитие хозяйства вместо того, чтобы быть простой bellum omnium contra omnes*79, звериной борьбой за существование, приводит к покорению природы совокупным человечеством, то это происходит благодаря этой сверхличной силе, называемой Гегелем «лукавством разума», а здесь обозначенной как софийность хозяйства. <...>
<...> В хозяйственном отношении к миру дивным образом открывается и величие призвания человека, и глубина его падения. Оно есть действенное отношение к миру, в котором человек овладевает природой, ее очеловечивая, делая ее своим периферическим телом. Человек есть микрокосм, как Логос мира и его душа. В хозяйстве, как труде, осуществляется полнота действенности человека не только как физического работника («серп и молот»), как это суживается в материалистическом экономизме, но и как разумной воли в мире. Научное естествознание и техника раскрывают перед человеком мир как безграничные возможности. Глухая и косная бесформенная материя делается прозрачна и духовна, становится человеческим чувствилищем и как бы отелеснивается. Этим выявляется космизм человека, его господственное призвание в мире. В хозяйстве же наглядно свидетельствуется и внешне ограждается и единство человеческого рода, ибо труд человека, как хозяйственного деятеля («трансцендентальный субъект хозяйства»), слагается воедино. продолжается непрерывно, интегрируется в истории. В хозяйстве мир дематериализуется, становится совокупностью духовных энергий. Поэтому, между прочим, изживание материалистического экономизма само собой совершается на пути дальнейшего хозяйственного же развития, которое все более сокращает область материи, превращая ее в человеческие энергии; мир становится мирочеловеком. Однако в хозяйственном отношении к миру выражается и падение человека, которому свойственна смертная жизнь, и хозяйство становится трудом в поте лица для поддержания жизни в непрестанной борьбе со смертью. Зависимость человека от хозяйства есть плен смерти, сама эта смерть. Хозяйство есть рабство смерти, и потому оно подневольно, корыстно, и к нему относится правда марксизма, который есть немотствующий философский пересказ II главы Бытия (о суде Божием над человеком). Однако и в падении человек сохраняет свою софийную природу, и его хозяйственная жизнь отмечена не одной корыстью, но и творчески-художественным призванием человека, служением идеалу и, как все человеческое. стремлением себя перерасти. И этот творческий мирообъемлющий размах хозяйства присущ нашей эпохе, когда мир становится человеческим делом. Философы много истолковывали мир, пора его переделать, – мир дан не для погляденья, все трудовое, ничего дарового, – так почти одновременно в разных концах Европы и на разных путях выразили одну и ту же мысль два философа хозяйства – К. Маркс и Н.Ф. Федоров. Этот колоссальный всемирно-исторический факт – хозяйственного покорения, очеловечивания и в этом смысле преобразования (хотя еще и не преображения) мира – уже обозначился, хотя пока и не совершился в истории. Он стоит и перед нашим религиозным сознанием, требуя для себя духовного уразумления, догмата... о хозяйстве. Это последнее до сих пор знает для себя только языческие догматы эпикуреизма: всякое умножение потребностей есть благо, стремление к богатству и себялюбие есть единственный критерий в хозяйственной жизни и т.д. Такова нехитрая мораль экономического эмпиризма. Недалеко от этого беспринципного эмпиризма ушла и та мудрость, которою располагало в отношении к хозяйству и церковное сознание. Для личного поведения оно располагало известным запасом аскетических идей, опирающихся на твердые евангельские основания и духовные традиции. Отношение к богатству здесь только отрицательное, как к похоти плоти, в которой проявляется сила греха и смерти. Этим вводится в хозяйственную жизнь аскетический корректив, проверяющий пред судом совести каждый хозяйственный акт. Однако он является недостаточным. Согласно Библии, труд есть и сам по себе религиозный долг человека, причем обстановка, труда не есть дело личного самоопределения, поскольку хозяйственная жизнь есть процесс общественный. В известном смысле хозяйственное поприще с различными его возможностями есть род судьбы для человека, а судьба эта состоит в том, что из отдельных хозяйственных актов – гетерогенией*81 целей – создается целый хозяйственный космос, в котором мы живем. И в отношении этой судьбы и этого космоса личная аскетика не имеет никаких руководящих идей, относится к ним только эмпирически, как к факту. А это принципиальное незамечание приводит к практическому приспособлению, т.е. внутренней и внешней секуляризации жизни. Монастырь, который духовно утверждается на аскетическом отвержении мира и нестяжательности, усвояет для своих хозяйственных нужд все завоевания техники и хозяйственного оборота как нечто само собою разумеющееся, ибо «деньги не пахнут». Принципиально Церковь освящает «всякую вещь», которую приносит мир из своей сокровищницы, однако последняя давно уже вышла из-под ее наблюдения. Можно сказать, что не бывало еще эпохи в истории, когда хозяйственная жизнь была бы в такой степени обмирщена, предоставлена своей стихии, как теперешняя. В языческом мире, так же как в христианском средневековье, не было такой секуляризации хозяйства, как теперь у христианских народов (да и сейчас жизнь у нехристианских народов – в Индии, Китае, Японии, Турции и др. является религиозно насыщеннее, чем у христианских). Эта секуляризация и получила теперь для себя идеологическое выражение в материалистическом экономизме, который содержит в себе некую правду относительно хозяйственной жизни нашего времени, ибо она протекает действительно без Бога, не перед лицом Божиим. Поэтому борьба с этим материализмом не может оставаться лишь апологетической, показующей его скудость и противоречивость, но и положительной, показующей христианский смысл совершающегося и возвращающей хозяйственной стихии ее церковный смысл. Между тем до сих пор господствующим отношением к хозяйству является практически-безпринципное приятие того, что идеологически рассматривается покуда лишь как «чудеса антихриста».
Куда же ведет нас хозяйственное развитие, имеет ли и хозяйство о себе пророчество, каким хочет быть о нем социализм? Не есть ли это последнее и всеобщее всемирно-историческое искушение, от которого следует спасаться избранным в пропастях и расселинах земных, если таковые еще останутся? Суждено ли христианам им искушаться, его не признавая, или же оно нужно, ибо через него лежит неизбежный путь истории к за-историческому эсхатологическому свершению? До сих пор история и эсхатология, временное свершение и конец его, разрываются между собой и противопоставляются, так что между ними практически отрицается всякая связь: одно должно прекратиться, чтобы началось другое, как deus ex machina*82. И в этом эсхатологическом трансцендентизме гаснут все земные огни и уничтожаются все земные ценности – остаются только личные заслуги и грехи, с их потусторонними эквивалентами в виде награды и наказания, принимаемых каждой отдельной личностью, без мысли об общем человеческом деле в истории. Из этого исторического и социологического нигилизма в эсхатологии вытекает и соответственный нигилизм в истории. Однако история в ее внутреннем апокалипсисе уже есть эсхатология, совершающаяся во времени, и Второе пришествие Господа, дня и часа которого никто не знает, кроме Отца Небесного, в смысле трансцендентном, имеет для себя исторические времена и сроки имманентного созревания, и в этой исторической эсхатологии должно быть отведено место и хозяйству с его достижениями. Во всяком случае перед нами встает этот вопрос: должен ли быть труд человека под солнцем включен в вечность, открываемую эсхатологией, или же из нее изгнан? Если да, то как и в каком смысле? Если же нет, то почему? (Ибо пока это не показано.)
История есть самоопределение и самооткровение человека – во Христе и против Христа (ибо антропология есть и христология, как и наоборот). Но сама жизнь человека не существует вне его хозяйственного творчества, которое постольку лежит в путях Божиих. Естественно, если в эту нарочитую эпоху экономизма встают вопросы эсхатологии хозяйства, притом на обоих противоположных полюсах человеческой мысли – христианской и антихристианской, богоборной. Можно назвать два имени, которые обозначают собой оба эти религиозные устремления и в этом смысле являются знамением эпохи с обоими ее путями: к Вавилону и к Граду Божию. Имена эти: К. Маркс и Н.Ф. Федоров50.
В Марксе с особенной силой проявился дух антихристианского богоборства, который, однако, соединяется с подлинным социальным пафосом и устремленностью к будущему. В нем было нечто от той расплавленности духа еврейских пророков – однако в безбожии, – которая покоряет сердца. Он понял человека как демиурга, который, преображая мир, экономический и социальный, преодолевает грани истории (Vorgeschichte*83) и совершает трансценз («прыжок») в эсхатологию (Geschichte*84). Он транспонирует на безбожный язык своего материалистического экономизма древние пророчества о горе Божией и мессианском царстве. Но конечно, для безбожия нет и не может быть эсхатологии, которая именно и состоит во встрече Бога с миром, в явлении Лица Божия всему творению, и, конечно, его обезбоженная эсхатология (Geschichte) есть и величайшая пустота. Vorgeschichte (т.е. история) со своим драматизмом и содержательностью, конечно, превосходит эту грядущую пустоту, которая по-прежнему остается областью смерти и временности. (В этом смысле Маркс вместе с другими безбожными прогрессистами должен быть отнесен к числу «смертобожников»*85, по выражению теперешних федоровцев.) Н.Ф. Федоров своим «проектом» преображения мира и победы над смертью путем «регуляции природы» сделал впервые попытку религиозно осмыслить хозяйство, дав ему место и в эсхатологии. Человек и для него есть демиург, строитель космоса, но в то же время он есть и сын человеческий, родовое существо, имеющее отцов, живущее во всечеловеческом «братотворении». Исполняя волю Божию, он становится и сыном Божиим, делая дело Христово в мире, объявляя войну последнему врагу – смерти и своими силами осуществляя воскресение отцов. Царство будущего века совершается человечеством в регуляции природы, история становится эсхатологией. Ни у кого из мыслителей, современных Федорову и ему лично близких (Достоевский, Вл. Соловьев, Л. Толстой, Фет, Вл.А. Кожевников*86 и мн. др.), при всем их личном к нему почитании, не нашлось решимости сказать его «проекту» прямого да, как нет ее и у наших современных мыслителей (за исключением Петерсона*87 и некоторых молодых федоровцев), но и – что не менее замечательно – никто из них не решился сказать и прямого нет. Остается признать, что не пришло еще время для жизненного опознания этой мысли, – пророку дано упреждать свое время. Но в этом «учителе и утешителе» совершилось «движение христианской мысли»*88 (Вл. Соловьев), в нем впервые вопросило себя христианское сознание о том, о чем спрашивает эпоха и что говорит Бог в откровении истории. Федоров понял «регуляцию природы» как общее дело человеческого рода, сынов человеческих, призванных стать сынами Божьими, как совершение судеб Божиих. Тем самым он пролагает путь и к положительному преодолению экономизма материалистического, своеобразно применяя к хозяйству основные догматы христианства. Материалистический экономизм преодолим христианской мыслью. Церковь и теперь спасает отдельные души от духовной смерти в нем, но она будет сильна жизненно преодолеть его, лишь когда явит свою истину об экономизме и тем устранит почву для клеветы и искажений. Но это должно стать не личным мнением, а делом Церкви, которая есть столп и утверждение истины, ибо врата адовы не одолеют ее.
 В отечественной истории П.А. Флоренский предстает фигурой уникальной и одновременно глубоко закономерной, порожденной как бы самой логикой развития общественной и философской мысли. Религиозный мыслитель и ученый-энциклопедист, он оставил заметный след в самых разных областях: был математиком, физиком, инженером, искусствоведом, филологом, историком и богословом. Столь разносторонние интересы отнюдь не обособлялись друг от друга; напротив, взаимопроникали, сочетались в служении высшей духовной истине, в утверждении «онтологичности духовного мира», прочной опоры мимотекущего в вечности. В своем творчестве Флоренский как бы воплощал тот идеал целостного знания, которого искала русская мысль на протяжении всего XIX в.: от любомудров и славянофилов (В.Ф. Одоевского и А.С. Хомякова) до Н.Ф. Федорова и В.С. Соловьева. В «Автореферате», написанном Павлом Александровичем в середине 20-х гг. специально для «Энциклопедического словаря Русского библиографического института Гранат», он определяет «свою жизненную задачу» как «проложение путей к будущему цельному мировоззрению». Не случайно потому ему была так близка задушевная идея Федорова о храмовом синтезе искусств. устремляющемся в конечной цели к преображению мира и человека, к «восстановлению всяческих». В искусствоведческих работах советского периода («Храмовое действо как синтез искусств», 1918; «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях», 1924) Флоренский раскрывает внутреннее функциональное сходство разных искусств, их живое творческое единство в храме и храмовой службе.
В отечественной истории П.А. Флоренский предстает фигурой уникальной и одновременно глубоко закономерной, порожденной как бы самой логикой развития общественной и философской мысли. Религиозный мыслитель и ученый-энциклопедист, он оставил заметный след в самых разных областях: был математиком, физиком, инженером, искусствоведом, филологом, историком и богословом. Столь разносторонние интересы отнюдь не обособлялись друг от друга; напротив, взаимопроникали, сочетались в служении высшей духовной истине, в утверждении «онтологичности духовного мира», прочной опоры мимотекущего в вечности. В своем творчестве Флоренский как бы воплощал тот идеал целостного знания, которого искала русская мысль на протяжении всего XIX в.: от любомудров и славянофилов (В.Ф. Одоевского и А.С. Хомякова) до Н.Ф. Федорова и В.С. Соловьева. В «Автореферате», написанном Павлом Александровичем в середине 20-х гг. специально для «Энциклопедического словаря Русского библиографического института Гранат», он определяет «свою жизненную задачу» как «проложение путей к будущему цельному мировоззрению». Не случайно потому ему была так близка задушевная идея Федорова о храмовом синтезе искусств. устремляющемся в конечной цели к преображению мира и человека, к «восстановлению всяческих». В искусствоведческих работах советского периода («Храмовое действо как синтез искусств», 1918; «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях», 1924) Флоренский раскрывает внутреннее функциональное сходство разных искусств, их живое творческое единство в храме и храмовой службе.
Родился П.А. Флоренский в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан), в семье инженера, строившего Закавказскую железную дорогу. По матери его корни уходят в глубину древнего армянского рода Сапаровых. Отец и мать, как вспоминал Флоренский, стремились превратить семью в особый мир, незыблемый и прочный, в «рай, которому не была бы страшна ни внешняя непогода, ни холод, ни грязь общественных отношений, ни, кажется, сама смерть». Этот культ семейного начала глубоко укоренился в душевном складе мыслителя. Дело строительства, духовного взращивания семьи было для него не менее важным, чем научные изыскания, чем работа, чем пастырское служение. Но возводил он ее на более стойком фундаменте, нежели отец. Александр Иванович сознательно обособлял детей от прошлого (долгое время они ничего не знали о дедах и прадедах) и от религии, от соборного единства Церкви. Тому были свои причины: оба, и отец, и мать, оторвались от своих родов и принадлежали к разным христианским исповеданиям. Сын же их восполнил односторонний культ семьи культом рода, сердечной памятью о предках, непрестанным обращением души и ума к выносившим его поколениям (для воспитания в собственных детях этого чувства он написал воспоминания об отце, дедах, прадедах, о себе самом, своем детстве, юности, как бы поведал им себя изнутри) и верой, сопричтенностью к Церкви, соединяющей всех в молитве, памяти и любви, преодолевающей губительность розни.
У Павла Александровича рано обнаружились исключительные способности к математике, и в 1900 г. по окончании тифлисской классической гимназии он поступает на физико-математическое отделение Московского университета. Параллельно изучает философию на историко-филологическом факультете под руководством известных философов и профессоров С.Н. Трубецкого (1862–1905) и Л.М. Лопатина (1855–1920). По окончании же курса поступает в Московскую духовную академию. В 1911 г. защищает магистерскую диссертацию «О духовной истине» и принимает сан священника. С этого времени окончательно определяется своеобразный параллелизм, внутренняя сопряженность его духовных и научных занятий. Он читает лекции по истории философии в Духовной академии, редактирует журнал «Богословский вестник», преподает физику и математику, разрабатывает курсы по методике геометрии, энциклопедии математики и т.д.
В 1914 г. выходит книга П. Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи», переработанная им из диссертации. Здесь развивается соловьевская концепция всеединства и идея Софии. Сама необычность построения книги (в виде двенадцати писем к другу, с многочисленными лирическими вставками), способ изложения материала (богословские рассуждения сопровождаются математическими выкладками, примерами из самых разных областей) свидетельствовали об особой позиции мыслителя, о стремлении привести к согласию религию и точное знание, о глубокой убежденности в равноположности истин веры с истинами настоящей, нравственно ориентированной науки. В 20-е гг. у него уже окончательно складывается система «конкретной метафизики», где он пытается выстроить цельную картину бытия путем анализа различных его уровней и устойчивых структур, а также выявления символов горнего мира. В 1922 г. Флоренский готовит к печати большую работу «У водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики» (включает главы об обратной перспективе, о науке как символическом описании, об антиномии языка, философии имени, органопроекции и т.д.), но она так и не вышла в свет.
Одну из глав этой книги («Органопроекция») мы предлагаем читателю в настоящей антологии. Чтобы лучше понять изложенные в ней идеи, приведем высказывание П.А. Флоренского об основах своего мировоззрения: «Основным законом мира Флоренский считает второй принцип термодинамики – закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос – начало эктропни. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса Вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству-смерти» («Автореферат»). Позднее, в письме к В.И. Вернадскому, он выскажет мысль о пневматосфере, особой оболочке Земли, созданной человеческим творчеством, «вовлеченной в круговорот культуры, или, точнее, круговорот духа», – мысль, прямо перекликающаяся с концепцией ноосферы.
Техника как часть культуры (именно так воспринимает ее Флоренский) упорядочивает, организует вне человека лежащую материю (вспомним, что подобный взгляд развивал и Н.А. Умов). Идея немецкого философа Эрнста Каппа об органопроекции – создании технических орудий «по образу и подобию» естественных органов – трактуется Флоренским как стремление человека активно воздействовать на окружающую среду, сознательно овладевать ею, целенаправленно ее перестраивать. Организм словно жаждет распространиться в пространстве, наложить свои контуры на все вещи мира. Отчего? Оттого, что чувствует себя несовершенным; «граница нашего тела, – пишет Флоренский, – есть признак, производное, последствие ограниченности нашей власти над самими собою».
Техника не просто посредник между человеком и природой, но и своего рода средство человеческого самопознания. Конструируя инструменты и машины, мы словно пытаемся глубже и точнее понять устройство наших собственных органов. То, что в организме бессознательно, рефлективно, делается здесь сознательно воспроизведенным. построенным по осмысленному проекту и плану. Более того, воспроизводя в технике те из наших органов, которые рудиментарны или вовсе еще не развиты и не выявлены, претворяя их в совершенные, стройные механизмы, мы вольно или невольно открываем для себя дремлющие пока возможности нашего собственного организма. «Линия техники и линия жизни идут параллельно друг к другу», – утверждает Флоренский.
Эта родственность, схожесть строения и функций органов и орудий, выраженная идеей органопроекции, подводит своеобразную теоретическую основу главной мысли Федорова, Бердяева, Горского, Вернадского о необходимости перехода от технического прогресса, оставляющего личность в ее физическом несовершенстве, к прогрессу органическому. Овладев умением создавать орудия-органы вовне, человек должен теперь применить это умение к своему телу, овладеть направленным органосозиданием, точность, силу и прочность механизма сообщить организму, не мертвое, а живое сделать совершенным.
Пожалуй, все кто доселе писали об о. Павле Флоренском, отмечали характерную для его жизни и творчества практическую устремленность, «конкретное, трудовое отношение к миру» (собственные слова мыслителя). А.Ф. Лосев (1893–1988) называл Флоренского «философом жизни и практики»: в науке его всегда интересовали исследования, применимые в действительности, в духовной сфере – возможность реального служения людям (оттого-то и стал священником). Эта устремленность к конкретному делу, столь свойственная вообще русским философам-космистам, помимо всего прочего, еще и помогла Флоренскому жить и работать при советской власти, да еще и не снимая рясы, не отрекаясь от веры. Именно в 20-е гг. вышли две фундаментальные его работы – «Диэлектрики и их техническое применение» (1924) и «Мнимости в геометрии» (1922). На некоторое время это спасло и в Сибири, в лагере, куда он был отправлен после ареста в 1933 г. Там он продолжил научно-исследовательскую работу, занимался вопросами добычи йода из морских водорослей, сделал ряд открытий. Но дух и душа его пребывали свободными, что, конечно, претило тоталитарному режиму, жаждущему рабства совести. В 1937 г. о. Павел Флоренский, находясь в лагере уже на Соловках, был вторично осужден и расстрелян.
I. Орудия расширяют область нашей деятельности и нашего чувства тем, что они продолжают наше тело. Эта мысль опирается на прямое наблюдение; но тем не менее в ней скрывается большая трудность. В самом деле, как может продолжаться наше тело в том, что по строению своему во всяком случае не есть наше тело? Как нечто неживое может продолжать живое, а следовательно, в каком-то смысле входить в состав его жизненного единства? – Греческий язык намекает на путь к ответу на поставленный вопрос, называя как орудия-инструменты, так и расчленения тела одним словом – орган. Прояснение же этого намека и ответ на поставленный выше вопрос даны в термине органопроекция – слове, предложенном в 1877 г. Эрнстом Каппом в его «Философии техники»*90, а затем использованном Паулем Карусом*91, Карлом дю-Прелем*92, у нас М.М. Филипповым*93 и некоторыми другими.
Суть мысли Каппа – уподобить искусственные произведения техники естественно выросшим органам. Техника есть сколок с живого тела или, точнее, с жизненного телообразующего начала; живое тело, разумея это слово с вышеприведенной поправкой, есть первообраз всякой техники. «Человек есть мера всех вещей», – скажем старыми словами Протагора*94, но придавая им смысл не субъективно-психологический, а объективный, физический и метафизический. По образцу органов устраиваются орудия. Ибо <...> одно и то же творческое начало в инстинкте зиждет подсознательно тело с его органами, а в разуме – технику с ее орудиями, но и тут орудие-строительная деятельность протекает в важнейших своих стадиях подсознательно, и сознанию достается лишь процесс вторичный. Можно сказать, что первопроекты как телесных органов, так и технических орудий одни и те же и лаборатория их – в одной и той же душе. Но осуществления этих проектов направляются двумя различными руслами, но первоначально единство замысла и на различных путях пребывает соблюденным.
Непосредственное действие инстинкта, то, что Эрнст Геккель*95 называет «творческой фантазией плазмы», при задержке своего непосредственного проявления дает мнимый фокус, мнимый образ творческого импульса. Этот образ именно этого задержанного действия; и потому, когда образ воплощается, облекаясь веществом, то это вещество, хотя и вне живого тела, оказывается, однако, вырезанным именно по образцу, так сказать, по контурам того действия или того действия-органа, которое было задержано. Было только что сказано: действия-органа, ибо орган нельзя мыслить вне его функции, и со своим действием всякий член тела составляет неразрывное целое.
II. Вот схематический пример сказанному. Мы голодны. Первичный импульс голода не удовлетворяется прямо, магически, голым велением, но раскрывает себя, свой смысл, систему внутренних соотношений, как протяженно-расчлененную совокупность органов, в которых должно видеть явление воли. Наша всегда нам принадлежащая власть над органами тела, при отсутствии таковой же над прочими телами внешнего мира, определяется не тем, что пределом власти нашей служит граница нашего тела, а как раз наоборот: граница нашего тела есть признак, производное, последствие ограниченности нашей власти над самими собою. <...> Но эта граница не может рассматриваться как безусловная: и в пределах самого тела очень многие функции, очень многие органы не находятся во власти тех, кто не научился ими владеть свободным-произволением, равно как и то, что за пределами тела, напротив, жизненно связано с телом, а, при известных навыках, делается и подвластным сознательному усилию; граница тела может суживаться, почти до исключения из тела большей части его объема, а может и расширяться неопределенно далеко. Магия, в этом отношении, могла бы быть определенной как искусство смещать границу тела против обычного ее места. В сущности же говоря, всякое воздействие воли на органы тела следует мыслить по типу магического воздействия. Взятие пищи рукою, поднесение ко рту, положение в рот, разжевы-вание, глотание, не говоря уж о переваривании пищи, выделение слюны, желудочных соков, усвоение пищи и дальнейшее ее обращение в теле – все это действия магические, и магическими называю их не в общем смысле таинственности или сложности их совершения, а в точном смысле явления ими воли, хотя местами и подсознательной, по крайней мере у большинства. Но, наряду с этими органическими последствиями инстинкта, есть и другие, технические. Вместо прямого действия, в случае голода – вместо схватывания пищи мы накопляем в себе мысль о действии и через то обостренно сознаем необходимость добыть себе пищу. Это сознание проектируется в виде средств к удовлетворению того же голода и, конечно, в размерах, увеличенных сравнительно с первоначальной потребностью добычи на первый раз: ведь наша мысль суммировала ряд импульсов – позывов на пищу, может быть, не наш личный только ряд, но и бесчисленное множество импульсов одного рода со стороны окружающих нас, со стороны прошлых поколений, влечения народной истории. Увеличенная, сравнительно с личным импульсом в данный час, мысленная проекция голода облекается в вещество, теперь уже во внетелесном пространстве, и таким образом воплощается в технические приспособления. Это приспособление решает ту самую задачу, которую решить призван и орган, выдвинутый той же потребностью. И техническое приспособление и орган выдвигаются одною потребностью и строятся одною внутреннею деятельностью. Отсюда понятно их сходство, вытекающее не из поверхностных аналогий, но из тождества их функций. Между органом и орудием, функционально обслуживающими одну задачу, есть и должно быть морфологическое тождество.
III. «Глаз действует, пока он похож на камеру обскуру*96, – написал Фехнер*97, – бронхи – пока они похожи на флейту, сердце – пока оно похоже на помпу, все тело со всеми его химическими процессами – пока оно похоже на топящуюся печь, выносящая влагу кожа – пока она похожа на холодильник». Мысль Фехнера не нова; все, говорившие о целесообразности устройства человеческого тела, проводили приблизительно подобные же сопоставления, с большей или меньшей отчетливостью, потому что мысль сопоставить органы и орудия уже содержится с самого начала в общем клубке телеологических размышлений <...>. Подобных свидетельств можно было бы набрать множество; большинству их присуща общность их сопоставлений. Но в истории телеологических воззрений мысль, сопоставляющая орудия и органы, мало-помалу формируется и вследствие этого определительно указывается, каким именно орудиям подобны те или иные органы. Так, Боссюэ*98 высказывает приблизительно подобные же сопоставления, но с значительною степенью отчетливости, так что явно выступает сопоставление отдельных органов тела с определенными орудиями и снарядами. «Из всех дел природы, – пишет Боссюэ, – в которых цель достигнута наилучшим образом, это без сомнения есть человек. Кто изучит человека, тот увидит, что это есть дело величайшего намерения, которое могло быть задумано и исполнено только глубокой мудростью. Если мудрость эта проявляется в целом, то она кажется не меньшею и в каждой отдельной части. В человеческом теле все расположено с удивительным искусством.
Для всасывания губы превращаются в трубку, а язык – делается поршнем. К легким приделан воздухоносный канал вроде нежной флейты особой отделки. Эта флейта, открываясь более или менее, изменяет ток воздуха и дает разнообразие тонам. Язык – это смычок, который, отделяясь от зубов и ударяясь о нёбо, извлекает здесь особенные звуки. У глаза есть свои влаги и свой хрусталик. Преломление лучей света производится здесь с лучшим искусством, чем в стеклах, отточенных наилучшим способом. У глаза есть также зрачок, который то суживается, то расширяется. Все глазное яблоко то удлиняется, то делается более сплющенным по оси зрения для того, чтобы приспособляться к расстояниям, как при очках для дальнего зрения. В ухе есть свой барабан. В очень твердой кости у уха есть углубления, приспособленные к тому, чтобы отражать голос, чтобы этот голос отдавался отзвуком (эхо), как между скалами. В сосудах есть свои клапаны или заслонки. У костей и мышц есть свои блоки и рычаги <...>». Таковы размышления Боссюэ. Определенность его слов и насыщенность его мысли конкретными впечатлениями, неожиданная в епископе, объясняются тем, что Боссюэ в продолжение целого года следил за сообщениями и указаниями анатома Дювернэ.
IV. Только что приведенные сближения органов тела и механизмов правильны, как указание на сходство тех и других, но они страдают пороком, свойственным вообще XVIII в.,-деизмом и потому вытекающим из него механицизмом. Логически и метафизически первым тут мыслится механическое приспособление, раз навсегда сделанное неизменным и приспособленное к точно предусмотренным заранее действиям, организм же – как нечто вторичное, образованное по образцу или по образцам-механизмам. Образец органа действует в силу внешнего сцепления своих частей; соответственный орган ему подражает, по существу своему будучи тоже не более как механизмом. <...> Но достоинство механизма – в его автоматичности; чем менее вмешательства со стороны дальнейшего творчества требует раз изготовленный механизм, тем он, как механизм, совершеннее. И потому в автоматичности заведенного при самом творении мира, возможности идти ему по предустановленным механическими законами путям видел XVIII век божественное превосходство его над механизмами, изготовляемыми рукою человеческой. Однако типом совершенства все же был механизм в собственном смысле слова – такой, который кажется взгляду механика насквозь прозрачным, и потому апологетика этого времени может быть рассказана простыми словами: «Мир хорош – совсем как наши машины – и потому сотворен Существом разумным». Но нетрудно понять, что в этих самодовольных словах содержится самообожествление человеческого разума, образующее суть жизнепонимания Нового времени и завершение раскрывшееся в кантианстве. XIX век <...> открыл <...> организм. А тогда стало ясно, что так называемое «механическое» есть лишь способ грубой схематизации жизни, моделирование, иногда практически полезное, но застящее действительность, лишь только к нему относимся не как к условной схеме. Если же речь идет о познании действительности, то тогда не организм и его органы должно понимать из механизма, а как раз наоборот, должно в механизме видеть отображение, сколок, тень какой-либо из сторон организма. Можно сказать, что механизм есть внешний очерк, абрис, контур организма, но пустой внутри, тогда как в организме главное- это тончайшее его строение, его гистология и, так сказать, ультрагистология. И тогда понятен вывод: «Технические продукты, как, например, зрительная труба, фортепиано, орган, представляют собою несовершенные органопроекции глаза, уха, горла», а глаз, ухо, горло – органические первообразы.
V. Но чтобы эта мысль об орудиях как о проекциях тела была более ясна и, главное, более плотна, не оставим своего обсуждения, прежде чем бегло просмотрим ряд примеров из этой беспредельной области.
а) Наши руки и плечи, в сущности вся фигура в целом, проектируется в технику как обыкновенные весы; чашки весов соответствуют ладоням несколько простертых рук, когда мы прикидываем на руках, какой из двух грузов тяжелее, коромысло – рукам, голова – стрелке, ноги – опоре весов. Когда мы вешаем грузы на руках, то, как всякий мог заметить, мы представляем собою весы, и это обстоятельство запечатлено в нашем языке названием сторон коромысла – плечами его.
б) Рука, или как поверхность, или как схватывающая пальцами, или как сжимающая, «есть мать всех орудий, совершенно так же, как осязание есть отец всех ощущений». Напомним, что даже благороднейшее из ощущений, зрительное, есть утонченнейшее осязание, на что указал уже Аристотель: зрение есть осязание ретиной*99. Тут уместно напомнить, что наша кожа эмбриологически развивается из наружного зародышевого листка, из той самой эктодермы*100, которая порождает собой, при дальнейшем дифференцировании, нервную систему и потому чувствующие части органов ощущения. Иначе говоря, самое сокровенное нашего тела есть вместе с тем и самое внешнее его, а органы ощущений суть не что иное, как та же видоизмененная кожа, и, следовательно, самые ощущения – производные осязания, или, точнее, все они, вместе с осязанием, вырастают на почве одной – «общего чувства», количественно наибольшая часть коего направляется по руслу осязания; а так как представительницей чувства осязания бесспорно надо признать руку, то понятно и то, что рука оказывается первообразом большинства наших орудий. Гладило для разравнивания, утюг, станки шлифовальные и полировальные для дерева, металла, стекла, камня, включительно до бриллиантово-гранильных машин и до приспособлений шлифовать оптические линзы – все это ладонь руки, одна и та же ладонь, то согнутая, то распрямленная, то чрезвычайно увеличенная, то, напротив, весьма уменьшенная, то с подчеркнутой жесткостью, то умягченная, – рука, которой в одних случаях придана бо́льшая, чем у ладони органической, определенность и постоянство движений, тогда как в других случаях, напротив, она получает большую сравнительно с членом тела свободу движений. Органическая рука способна производить многие действия, и потому – ни одного предельно точно. Но при разных мастерствах ладонь все же получает разный характер, делаясь то более жесткой, то более гибкой и т.д. В перечисленных же орудиях и других, проектирующих ту же ладонь, те или иные свойства ладони стилизируются, подчеркиваются с соответственным ослаблением других; тогда ладонь теряет свою многообразную функцию и, сделавшись определенной в направлении своей деятельности, дает тот или иной гладильный инструмент. Но было бы ошибочно думать, что это проецирование органа в технику делается нарочито, сознательным расчетом: правильнее видеть в техническом творчестве сознательное использование не готовых, растущих в теле образцов, а идей их, доступных под- или сверх-сознательному созерцанию. И вот та самая идея-функция, которая организмом осуществляется в ладони руки, осуществляется другой раз, или другие разы, много других разов, но с разными оттенками, в ряде орудий гладильного назначения. Если угодно, можно было бы сказать, что эти разные орудия суть воплощение одной и той же идеи, но в разных стилях; ведь что же, в сущности, есть стиль, как не выражение того или другого поворота творческой воли в силу необходимости добиться известной функции. Мы вникли в проекции руки как ладони; нетрудно теперь было бы сделать то же в отношении проекций той же руки, но в ее функции схватывания или сжимания; но, не останавливаясь на этом, обратимся к другим органам... <...>
ж) Уху подражает рояль, пианино, фортепиано и прочие тому подобные музыкальные ударные инструменты с клавишами. Сперва может показаться неестественным такое сопоставление, раз упомянутые инструменты производят звук, а ухо его воспринимает, так что функции там и тут различны. Но если мы вспомним, что восприятие звука возможно лишь после его в каком-то смысле воспроизведения в самом слуховом органе, то мы согласимся, что аппарат внутреннего уха есть аппарат звукопроизводящий, хотя этот звук и не разносится наружу. Подобие уха и рояля, следовательно, обосновывается. Ударный аппарат уха – молоточек, наковальня и стремя удивительно воспроизведены техническим творчеством в каждом из молоточков с передаточными частями рояля, барабанная перепонка соответствует клавишам, кортиевы дуги – струнам, костные резонаторы – резонансовым доскам и полостям. Таково одно направление, по которому была стилизована идея уха; а другое привело к звукозаписывающим аппаратам, фонавтографам, фонографам и граммофонам, причем граммофоны и фонавтографы специализировали функцию фонографов.
з) Проекция глаза, со стороны оптических сред, есть камера обскура, изобретенная Баптистом Портою в 1560 году. Так как арабский ученый Альгасен*101 описал строение глаза, а Шейнер*102 в 1562 г. дополнил физическую теорию зрения, ХVI-ый век был самым оживленным в обсуждении теории зрения, особенно перспективы, то естественно думать, изобретение Порты не стояло особняком от общего внимания к глазу и, следовательно, могло быть сознательным сколком его устройства. Во всяком случае, некоторое время спустя сам изобретатель <... > сравнивает глаз со своей камерой обскурой. Нет сомнения, что в рассматриваемом, как и во многих других случаях, не только познание органа повело к техническому строительству, но и, напротив, техническое построение побудило более пристально вглядеться в свой прототип и отчетливее представить себе его схему.
и) Заведомо сознательным повторением ахроматически преломляющих глазных сред было изобретение ахроматических линз для телескопов и прочих оптических инструментов. <...>
Оптические среды глаза могут проецироваться и с различными специализированными стилизациями: тогда возникает сложная лупа, микроскоп, подзорные трубы, рефракторы и т.п. При этом собственно измерительные части таких инструментов проецируют те нервные приспособления, при помощи которых мы можем учитывать, насколько именно мы повернули в том или другом направлении свой глаз. Как пример вращательных движений одного глаза мы укажем пользование лимбами, тогда как общий подъем всего корпуса проецирован катетометром. <...>
Другой же момент, служащий к определению глубинных расстояний, а именно аккомодация хрусталика, тоже дает основу для телеметрии через измерение фокусного расстояния. Бинокулярный зрительный синтез повел, как известно, даже путем сознательного подражания к изобретению стереоскопа и стереоскопической камеры в светописи; расширяясь далее, то же начало проектировалось в телестереоскопе, который правильно было бы назвать глазами великана; а при еще большем расширении глазного расстояния возникли астрономические фотографии для стереоскопа путем съемки с разных концов земного диаметра или даже земной орбиты. Мы уже видели, что устройство ахроматических линз исходило из подражания ахроматизму глаза. Но у глаза помимо ахроматизма есть ряд своеобразных свойств. Введение в современной оптической технике систем оптических чечевиц из разных сортов стекла есть подражание оптическим средам глаза, имеющим переменную плотность и, весьма вероятно, несколько различный состав. <...>
Оптический образ, даваемый хрусталиком в зрительном аппарате, дробится, как известно, на отдельные, далее уже неделимые, непротяженные, для сознания, элементы, каждый соответствующий одному нервному окончанию. Другими словами, картина мира представляется точечной, как бы сложенной из мозаики. Технически это раздробление оптического образа использовано при фотографировании через сетку и в последующем за ним цинкографском точечном воспроизведении изображения в типографском деле. <...>
Фотография исходила из глаза. Но замечательно, что и дальнейшее развитие фотографической и связанной с нею типографской техники следует принципам, которые наглядно показывает зрение. Имею в виду восприятие цветов. Глаз не только дробит цветовую поверхность экстенсивно, но и разлагает каждый из элементов поверхности качественно, на три основных цвета, соответствующие трем родам нервных цветовоспринимающих окончаний в решетке, если верить теории Юнга*103 – Гельмгольца*104. В истории искусства эта способность глаза повела, через сознательное подражание, к пуэнтиллизму. В технике на том же начале была основана сперва цветная фотография Жоли через сетку чередующихся параллельных линий трех цветов, а затем – вошедшая в употребление люмьеровская цветная фотография*105. <...> Проекцию того же принципа, но в ином направлении, дает фотографирование через три светофильтра с дальнейшим соединением затем трех изображений сциоптикопом или же, при раздроблении их сеткой, через печатание на одном листе тремя красками, обычная трехцветка.
Чтобы закончить с вопросом о бесчисленных технических проекциях глаза и его частей, отметим лишь, что сознательное подражание радужной оболочке глаза дало в технике диафрагму-ирис, что и по названию указывает на радужную оболочку (iris – радужная оболочка), вместившую более старые и менее совершенные проекции той же оболочки обычными диафрагмами. <...>
л) Нервная система проецируется электрическими приборами, с которыми она имеет, по-видимому, более чем только формальное сходство. С одной стороны, мы знаем, что нервные процессы всегда сопровождаются электрическими токами, воспринимаемыми и обычными чувствительными гальванометрами, и при этом токами, меняющимися по силе и напряжению в зависимости от процессов психических. Напомним к этому, что именно мышечная функция и органы преобразовываются в таковые же электрические у различных электрических рыб, по исследованиям А.И. Бабухина*106 и И.Ф. Огнева*107, т.е., иначе говоря, в электрических ударах электрических рыб нужно видеть эквивалент мышечным ударам и, значит, непосредственное следствие иннерваций. А с другой стороны, электричество, объединяющее в себе все прочие виды энергии и ставшее уже универсальной физической причиной, лежащей не только глубже разделения отдельных видов энергий, но и глубже разделения материи и энергии, электричество, по эзотерическим*108 воззрениям, издревле рассматривалось как частный случай первома-терии или, если угодно, перво-силы, которая есть носитель не только всех физических, но и оккультных явлений мира, будем ли мы называть эту все-причину одом, астралом или иными подобными терминами. Следовательно, с этой точки зрения «пластического посредника» понятна теснейшая связь между явлениями, связывающими психику, и электрическими. <...>
м) Кости – с их упругими искривлениями, с двумя видами костной ткани, плотной и губчатой, с пластинками, расположенными по линиям наибольшего сопротивления, и с их чудесной, сравнительно с количеством вещества, крепостью – это прототип железных и железобетонных сооружений. В запутанной на первый взгляд и густо переплетенной сети косых перекладинок и пластинок, которая пронизывает губчатую кость, мы узнаем механически совершенную систему упругих столбов и стропил. В каждой кости эта система распределяется иначе, но всегда так, что костяные петли, образующие в архитектуре кости сеть, соответствуют направлению действия силы, которому подвергается данная кость, при нормальных движениях и функциях нашего тела. Каждая отдельная пластинка имеет свое специальное статическое назначение, свою определенную задачу в этой кажущейся путанице столбов, связанных между собою и взаимно перекрещивающихся в своих направлениях. Строение губчатого костного вещества напоминает устройство тех, столь же легких и изящных висячих мостов, которыми строительное искусство заменяет с минимальной затратой материала и в наиболее целесообразной форме тяжелые и массивные каменные арки, воздвигавшиеся в прежнее время над реками и долинами. Открытие архитектурной сущности костного вещества принадлежит Герману Мейеру*109. Как установили математически Кульман*110 и Юлиус Вольф*111, «человеческое бедро устроено строго по принципам статики, как мог бы устроить инженер какое-либо тело, которому приходилось бы, подобно бедру, выдерживать давление и вытяжение» (Ю. Вольф); во всех исследованиях в .этом направлении костей архитектура костных перекладинок в губчатом веществе вполне соответствует теоретическим линиям графической статики. Направление решетчатых перекладинок в кости строго придерживается линий, которые мы получаем в математических построениях, соответствующих по форме и функции костям.
н) Живое существо, всякое теплокровное со стороны тепловой энергии может быть названо термостатом, и есть прототип термостатов технических. Можно даже сказать более определенно, что термостат есть проекция материнской утробы, искусственная материнская утроба, подобно тому как инкубатор – прибор для искусственного выведения цыплят – уже явно и преднамеренно подражает курице-наседке.
о) Обратимся теперь к тому синтетическому орудию, которое объединяет в себе многие орудия и, принципиально говоря, все орудия. Это орудие орудий есть жилище, дом. В доме, как средоточие, собраны все орудия или находятся при доме, возле него, в зависимости от него – служат ему. Чего же есть проекция жилище? Что именно им проецируется? По замыслу своему жилище должно объединять в себе всю совокупность наших орудий – все наше хозяйство. И если каждое орудие порознь есть отображение какого-либо органа нашего тела с той или другой его стороны, то вся совокупность хозяйства, как одно организованное целое, есть отображение всей совокупности функций органов, в их координированности. Следовательно, жилище имеет своим первообразом все тело, в его целом. Тут мы припоминаем ходячее сравнение тела с домом души, с жилищем разума. Тело уподобляется жилищу, ибо самое жилище есть отображение тела. Припоминаем и классическое изречение Витрувия*112, сказавшего, вслед за общим воззрением древности, что прекрасное здание должно быть построено «подобно хорошо сложенному человеку», изречение, точный смысл которого раскрываются ниже. Подобно сему и Микеланджело*113 утверждает, что «части архитектурного целого находятся в таком же соотношении, как части человеческого тела, и тот, кто не знал и не знает строения человеческого тела в анатомическом смысле, не может этого понять». Наружность здания ор сопоставляет с лицом, этою наружностью тела – по преимуществу. «Если в плане имеются различные части, – писал Микеланджело, – то все одинаковые по качеству и количеству должны быть одинаково украшены и орнаментированы. Если же меняется одна часть, то не только позволено, но необходимо изменить ее орнаментику, а также и соответствующих частей. Основная часть всегда свободна, как нос, находящийся посредине лица, не связан ни с одним глазом, ни с другим; рука же должна быть одна как другая, и один глаз должен быть как другой. Поэтому очевидно, что части архитектурного целого находятся в таком же соотношении, как части человеческого тела, и тот, кто не знал и не знает строения человеческого тела в анатомическом смысле, не может этого понять». Дом подобен телу, а разные части домашнего оборудования аналогически приравниваются органам тела. Водопровод соответствует кровеносной системе, электрические провода звонков, телефонов и т.д.- нервной системе, печь – легким, дымовая труба – горлу и т.д. и т.д. И понятно, что иначе быть не может. Ведь, заключаясь в дом со всем телом, мы заключаемся туда со всеми своими органами. Следовательно, удовлетворение каждого из органов, т.е. доставление ему возможности действования, происходит не иначе, как через посредство дома, и значит, дом должен быть системою орудий, продолжающих все органы. Но, не останавливаясь на этом вопросе пока, мы лишь отметим, что древний дом, дом по преимуществу, – с его двором, наружною частью и внутреннею рассматривается как отображение всего человеческого существа. В особенности это толкование относится к дому по преимуществу – к храму с его двором, святилищем и святейшим, одинаковому по составу как у язычников (двор, перистоль*114, наос*115), так и у иудеев. Нередко говорилось, что храм, как дом Божий, строится именно как дом, по образцу дома. Но это с точки зрения новейшей сакральной теории культуры ложное обращение, воистину поставление быка после плуга. Храм есть тип дома, а не дом – храма, и самый дом есть дом постольку, поскольку и он все же есть род храма. Ту же трехчастность видим, далее, и в христианстве – притвор, храм, алтарь, и в ламаизме и т.д. Короче, эта трехчастность есть норма храма. И теперь, обращаясь к толкователям храмовой символики, как древним, так и новым, мы видим, что в этой трехчастности усматривается ими изображение трех моментов человеческого существа – тела, души и духа – или, если угодно, тела физического, тела астрального и тела духовного. Таково толкование, например, у Филона*116 и других древних толковников. <...>
VI. Приведенные примеры показали нам, что рассмотренные нами орудия, действительно, суть органопроекции. Но если это так – по существу технического творчества, а не по случайному совпадению, то следует думать, что таковы не только «некоторые», а и все орудия и что в существе орудия лежит и необходимость быть проекцией какого-либо органа. А в таком случае ставится двойной вопрос: во-первых, все ли наши органы проецируются в техническом творчестве человека? И во-вторых, всякое ли орудие, в самом деле, есть проекция одного из наших органов? Ясное дело, что на первый вопрос не может быть иного ответа, как отрицательный. Наша техника развивается. Я не хочу сказать, что она беспрерывно развивается на протяжении всей истории, но – лишь то, что появляются орудия, которых в данный период истории и в данной культуре не было, и притом орудия, построенные по новым принципам. И нет никаких оснований думать, что деятельность этого строительства чем-нибудь ограничена и что она не может продолжаться неопределенно далеко. Следовательно, каждое данное состояние техники не есть окончательное, и, следовательно, в каждый данный исторический момент не все органы или не все стороны органов проецируются в технику. Историческая задача техники – сознательно продолжить свое органопроецирование, исходя из решений, даваемых беспристрастным телостроительством души. «Так как природа, – говорит дю-Прель, – решает свои органические задачи по принципу наименьшей затраты силы и является прообразом по отношению к технике, то последняя должна подражать природе, что до сих пор она бессознательно и делала; но она должна, если желает идеального решения своих задач, возвыситься до сознательного подражания природе... Только с вступлением техники на путь подражания природе и может явиться надежда, что ее развитие не будет зависеть от случая, не будет уподобляться исканию с завязанными глазами, но явит собою осуществление пророчества Бэкона Веруламского*117: «С изобретением будет совершенствоваться и искусство изобретения». Таков ответ на первый вопрос, ответ лишь предварительный, ибо объем его, как увидим, будет чрезвычайно расширен, когда мы рассмотрим второй из поставленных вопросов, а именно, все ли орудия суть проекции наших органов? <...> Ответ на вопрос, поставленный так, как он был поставлен, не может быть иным, нежели отрицательными. Прежде всего, далеко не все органы собственного своего тела мы знаем. Тело наше вовсе не может считаться познанным, что, однако, не мешает творческому воображению техника проецировать в технику и т.п. стороны нашего тела или т.п. органы, которые анатомии макро- или микроскопической и физиологии еще не известны. Следовательно, не только допустимо, но и следует ждать увидеть в технике такие орудия, которых прототипа органического мы еще не нашли.
Затем, многие из наших органов рудиментарны или даже вовсе не развиты и не выявлены вследствие растекания потока жизни в разные существа, что не мешает этим органам принципиально быть в нашем или, скорее, в жизненном начале нашего тела. Для цельности организма необходима его стилизация в известном направлении, то есть необходима в развитии органов его известная односторонность. Но это не значит, что и в области орудий, по нашему произволу, в зависимости от потребностей данного времени и данной задачи, продолжающих или не продолжающих наше тело, прилагаемых к телу или откладываемых от него, тоже должна быть специализация, если брать ее в ее целом. В силу произвольности в присоединении или неприсоединении того или другого орудия к телу, в силу их большей разобщенности между собою, нежели это можно сказать об органах тела, орудиям может быть присуща меньшая согласованность между собой, а потому – бо́льшая проявленность разнообразных заданий. Например, совмещение органов и функций обоих полов в одном организме, по крайней мере высшем, невозможно: для правильности действия требуется разъединение этих функций и органов, то есть стилизация организма или в мужской, или в женский. Но это не значит, что творческие возможности обоих полов исключаются из данного организма: каждому полу свойственны органы и функции другого, но в зачаточном виде. Так, в мужском организме есть матка, и потому проекция матки, созданная в технике женщиной, вовсе не может быть отрицаема как органопроекция человеческого тела вообще и мужского в частности, хотя матка у мужчин рудиментарна.
Скажем точнее. Орудия создаются жизнью в ее глубине, а не на поверхности специализации, а в глубине своей каждый из нас имеет потенциально многоразличные органы, не выявленные в его теле, и может, однако, выявить их в технических проекциях. Отсюда следует и обратное: жизнь может технически осуществить проекцию некоторого органа раньше, чем станет он нам известен анатомо-физиологически, у нас самих или даже у других организмов, других созданий жизни, не человеческих – в явном виде, а потом, б. м., и у человека в зачаточном. Если изучение организмов есть ключ к техническому изобретению, то и обратно, технические изобретения можно рассматривать как реактив к нашему самопознанию. Техника может и должна провоцировать биологию, как биология – технику. В себе и вообще в жизни открываем мы еще не осуществленную технику; в технике – еще не изученные стороны жизни. Линия техники и линия жизни идут параллельно друг другу; но соответственные точки той и другой могут забегать вперед и отставать относительно друг друга. И это дает судить нам о каждой из этих линий прогностически, на бо́льшее расстояние, чем они даны нам фактически – линия жизни в сознании, линия техники в действительности. Так, например, воздухоплавание стало на твердую почву, когда изучило полеты птиц, и именно факт птичьего полета внушил из глубочайшей древности, еще в царствие Миноса, твердое убеждение, что аэронавтика возможна. Но в других случаях результаты техники еще не достигнуты, хотя и предвидятся определенно. Так, например, зная об органах электрических рыб – сома, гнюса (ската), угря и оксиринха, священной рыбы египтян, можно и должно было предвидеть возможность построения электрических орудий как продолжение тела. Таковое практически все еще не осуществлено, разве что не считать фантазии Жюля Верна в романе «80 000 лье под водой», где описывается электрическое оружие капитана Немо.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович, мне давно хотелось выразить Вам свою радость по поводу Ваших последних геохимических работ, и в особенности – по поводу концепции биосферы. Однако сделать это лично не удается, и потому позвольте высказать свою признательность в нескольких словах письменно. Общее направление Ваших мыслей не было для меня новостью, и мне кажется, оно не может быть новостью ни для кого, вдумывающегося в основы и методы науки о космосе и учитывающего исторический ход наших знаний. В этом – высшая похвала Вам. Слова наука о космосе пишу не случайно, ибо для науки, в противоположность произвольному схемостроительству и системоверию, космос ограничивается или почти ограничивается биосферой, а все остальное относится либо к области домыслов, либо к формальным соотношениям, конкретное значение которых весьма многозначно. От души приветствую, что Вы имели мужество назвать мнимое знание о внутренности Земли настоящим именем; общественно было бы чрезвычайно важно твердить нашей полуграмотной интеллигенции (со включением сюда многих «проф.») о незаконности экстраполяций, на которых зиждется обычно мнимое знание. Позвольте в виде анекдота рассказать действительный случай, характеризующий склонность нашей интеллигенции к экстраполяции. В Главэлектро однажды был представлен доклад, в котором развивалась мысль, якобы полученная из опыта, о повышении экономической рациональности какого-то процесса в связи с расширением каких-то условий (на которые требовалось отпустить большой кредит); мысль эта доказывалась кривою, построенной по эмпирическим точкам, причем огромный чертеж, величиною чуть не с целый стол, имел буквально такой вид*119.
Эта кривая напоминает многие «научные» построения.
Подобное тому, что Вы говорите о внутренности Земли, необходимо развить и в отношении внешнего биосфере пространства. Тому, кто сколько-нибудь вникал в основания геометрии и в ее психофизиологические и физические источники, не может не быть очевидной произвольность истолкования данных астрономического опыта. Тут мы опять имеем дело с невероятной экстраполяцией данных биосферического опыта и выносим эти данные в такие новые условия, что они утрачивают не только свою надежность, но и вообще какое-либо конкретное содержание. В Талмуде есть мудрое изречение: «Приучай уста твои говорить как можно чаще: я не знаю». Как было бы полезно современности обратить внимание на него, сделать лозунгом и вывесить во всех аудиториях Systemglaube ist Aberglaube*120, и это Aberglaube ведет к нежеланию действительно познавать, действительно изучать то, что нам доступно. Вы отмечаете, что нет ни одного полного химического анализа животного организма. Сюда бы следовало добавить еще, что, в какую область ни ткнешься, на первых же шагах оказывается, что самые простые и самые насущные необходимые явления вовсе не изучены систематически, а имеются лишь разрозненные обрывки, разболтанные в произвольных схемах. В результате все то, что действительно существует, что всячески для нас важно, полупризнается или вовсе не признается. В истории общественного сознания следует считать событием огромной важности, что явление жизни, наиболее близкий нам, доступный и бесспорный факт, Вы и Ваша школа сделали предметом особого внимания и изучения и космической категорией. В частности, мне представляется чрезвычайно многообещающим высказываемое Вами положение о неотъемлемости от жизни того вещества, которое вовлечено (или, может быть, точнее сказать, просто участвует) в круговорот жизни. Вы высказываете предположение об особой изотопичности этого вещества; хотя этот момент возможен и вероятен, однако установка эмпирических изысканий должна, мне кажется, идти как-то глубже в строение вещества. Ведь наивный схематизм современных моделей атома исходит из метафизического механизма, который в самом основании своем отрицает явление жизни.
Переходя на новый путь и провозглашая «верность Земле», т.е. биосферическому опыту, мы должны настаивать на категориальном характере понятия жизни, т.е. коренном и, во всяком случае, невыводимом из наивных моделей механики факте жизни, но, наоборот, их порождающем. Теперь мы – экономические материалисты; так вот, механические модели есть не что иное, как надстройка над устарелой формой хозяйства, давно превзойденной промышленностью, и потому, следовательно, эти модели ничуть не соответствуют экономике настоящего момента. Скажу больше, они общественно и экономически вредны, как ведущие к реакционной экономической мысли и, следовательно, задерживающие и искажающие развитие промышленности. Если в настоящий момент промышленность есть электрохозяйство и отчасти теплохозяйство, но вовсе не механохозяйство, а физика есть электрофизика, то присматривающемуся к ходу развития промышленности не может не быть очевидным, что промышленность будущего, и может быть близкого будущего, станет биопромышленностью, что за электроникой, почти сменившей паротехнику, идет биотехника и что, в соответствии с этим, химия и физика будут перестроены, как биохимия и биофизика. Мое убеждение, что Ваш биосферический лозунг должен повести к эмпирическим поискам каких-то биоформ и биоотношений в недрах самой материи, и в этом смысле желание подойти к этому вопросу только из моделей наличных, т.е. пассивно в отношении учения о материи, а не активно, может быть тормозящим развитие знания и реакционным. Может быть, гораздо более целесообразно твердо сказать по Талмуду «я не знаю» и тем побудить других к поискам. У платоника Ксенократа*121 говорится, что душа (т.е. жизнь) различает вещи между собою тем, что налагает на каждую из них форму и отпечаток – μορφή καιτυπος. Епископ эмесский Немезий*122 указывает, что при разрушении тела его «качества – ποιοτητες – не погибают, а изменяются». Григорий Нисский*123 развивает теорию сфрагидации – наложения душою знаков на вещество. Согласно этой теории, индивидуальный тип – εξβος – человека, подобно печати и ее оттиску, наложен на душу и на тело, так что элементы тела, хотя бы они и были рассеяны, вновь могут быть узнаны по совпадению их оттиска – σφραγις – и печати, принадлежащей душе. Таким образом, духовная сила всегда остается в частицах тела, ею оформленного, где бы и как бы они ни были рассеяны и смешаны с другим веществом. Следовательно, вещество, участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни индивидуальной, остается навеки в этом круговороте, хотя бы концентрация жизненного процесса в данный момент и была чрезвычайно малой. Упоминаю здесь об этих воззрениях только как сообщение, может быть вам небезынтересное. С своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую, скорее, эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или, может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, т.е. о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных образований, проработанных духом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать существование и соответственной особой сферы вещества в космосе. В настоящее время еще преждевременно говорить о пневматосфере как предмете научного изучения; может быть, подобный вопрос не следовало бы и закреплять письменно. Однако невозможность личной беседы побудила меня высказать эту мысль в письме.
 Н.А. Бердяев принадлежит к тому поколению деятелей русской мысли и культуры, жизнь и судьба которых были надвое рассечены революцией. В 1922 г. по распоряжению советского правительства в числе большой группы писателей, философов и ученых он был выслан из России. Более 20 лет прожил в изгнании – сначала в Германии, а затем во Франции – и стал за эти годы одним из самых известных и популярных философов на Западе. Для европейской общественности Бердяев, один из представителей «нового религиозного сознания», явился «выразителем духа православия» (В. Зеньковский), тех его глубин, что не были раскрыты официальной церковностью и богословием. Он стал проповедником «русской идеи» (именно так называется одна из его книг, посвященная истории русской мысли и опубликованная в Париже в 1947 г.), которую сам Бердяев определяет как идею эсхатологическую, как чаяние всеобщего спасения, взыскание Града Небесного, «нового неба и новой земли».
Н.А. Бердяев принадлежит к тому поколению деятелей русской мысли и культуры, жизнь и судьба которых были надвое рассечены революцией. В 1922 г. по распоряжению советского правительства в числе большой группы писателей, философов и ученых он был выслан из России. Более 20 лет прожил в изгнании – сначала в Германии, а затем во Франции – и стал за эти годы одним из самых известных и популярных философов на Западе. Для европейской общественности Бердяев, один из представителей «нового религиозного сознания», явился «выразителем духа православия» (В. Зеньковский), тех его глубин, что не были раскрыты официальной церковностью и богословием. Он стал проповедником «русской идеи» (именно так называется одна из его книг, посвященная истории русской мысли и опубликованная в Париже в 1947 г.), которую сам Бердяев определяет как идею эсхатологическую, как чаяние всеобщего спасения, взыскание Града Небесного, «нового неба и новой земли».
Для русского читателя имя Бердяева связано с тем духовным возрождением, которое переживала Россия в начале XX в. Целая плеяда мыслителей повернула тогда «от марксизма к идеализму» (С. Булгаков), от социально-политической односторонности к всеохватности, вселенскости религиозного взгляда на смысл истории и задачу в ней человечества. Бердяев среди них – одна из наиболее ярких и значительных фигур. Его статьи – в трех «программных» сборниках этой плеяды: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). И жизненная судьба до высылки тоже тесно соприкасается с судьбой ее членов.
Николай Александрович происходил из семьи потомственных военных. Ребенком был произведен в пажи, затем помещен в кадетский корпус. Казалось бы, все свидетельствовало о том, что он пойдет по стопам своих генеральских предков. Но вышло совсем иначе. Проучившись в кадетском корпусе несколько лет и на всю жизнь преисполнившись отвращения к военным, войне и воинской службе, юноша перед самым выпуском оставляет учебу и поступает в Киевский университет, на естественный факультет. Он уже четко знает свое призвание. Это философия, но только не академическая, сухая, оторванная от живой жизни схоластика, а подвиг мышления, в котором раскрывается духовная судьба личности во всей ее неповторимости. С самого начала в сочинениях Бердяева присутствует собственная интонация; каждая книга, каждое публичное выступление становится событием внутренней биографии.
Н.А. Бердяева порой сближают с В.С. Соловьевым по способности ко всеобъемлющему синтезу. Действительно, его мысль вырастает на могучем древе мировой мыслительной традиции, в его творчестве сплетаются корни западной и русской философской культуры. Но синтез этот глубоко самобытен. Опыт человечества, проходя горнило сознания и сердца, становится его личным экзистенциальным опытом, и затем уже этот экзистенциальный опыт предлагает он миру в своих сочинениях. Бердяев всегда считал себя экзистенциальным философом. Недаром последней его книгой стало «Самопознание. (Опыт философской автобиографии)» (Париж, 1949). Факты внешней биографии выступают здесь лишь постольку, поскольку они связаны с внутренней жизнью духа, с коллизиями сознания, с тернистым путем творчества. Главный же интерес представляет духовная судьба автора, его собственный личностно-философский тип.
Из этой книги мы узнаем внутреннее содержание главных событий жизни Бердяева, в частности его увлечения марксизмом и сближения с социал-демократическими кругами в конце 90-х гг. Николаю Александровичу всегда претило отвлеченное философствование. А марксизм устремлялся к практической реализации идеи, к изменению данности, к улучшению мира. Будучи студентом, Бердяев участвует в киевском социал-демократическом комитете, читает его членам лекции и доклады. Его дважды арестовывают – в 1897 и 1898 гг., а в марте 1900-го на три года высылают в Вологодскую губернию. Впрочем, уже в этот период выявляется его «неблагонадежность» в отношении марксизма. Об этом свидетельствуют и первая книга «Субъективизм и идеализм в общественной философии» (1901) – попытка синтеза критического марксизма с идеалистической философией, и статья «Борьба за идеализм» (Мир Божий. 1901. № 6).
Потом был продолжительный «переходный период». Николай Александрович приезжает в Петербург. Он участвует в движении культурного ренессанса, сближается с литературными кругами, председательствует на знаменитой «башне» Вячеслава Иванова – квартире в Таврическом переулке, где каждую среду происходили собрания символистов. Основывает религиозно-философское общество, редактирует журнал «Новый путь», а затем «Вопросы жизни». В то же самое время он не порывает своих социал-демократических связей. Примыкает к «Союзу освобождения» и присутствует на двух его заграничных съездах – в 1903 и 1904 гг. Активность молодого мыслителя колоссальна. Кажется, он целиком отдает себя литературно-философской и социал-демократической деятельности. И все же внутри его нарастают сомнения – и в нравственной прочности духовных основ культурной среды, и в единоспасаемости марксистского пути. Главную слабость литературного движения видит Бердяев в его «кружковости», элитарности, изолированности от общенациональных проблем, примате эстетического начала над этическим. Сам он – моралист, в его мысли очень силен этический пафос: деонтология здесь реальнее онтологии, должное довлеет сущему, идеал побеждает действительность. Впоследствии Бердяев сделает вывод о том, что наличное бытие мира и человека есть результат «объективации», подчиняется закону необходимости, отрицает свободу. А ведь именно свобода является неотъемлемым условием существования личности, опорой ее становления. Мир сей вовсе не благодатен, он – царство «имущего державу смерти», его несовершенство преодолевается на путях человеческого творчества, устремленного к высшему идеалу, к должному порядку вещей, к соединению с Богом.
В марксизме же и его приверженцах Бердяева смущает ярко выраженная склонность к тоталитарности, к коллективности мнений и поступков. «Революционер духа» – так себя определял сам Николай Александрович, – он борется со всяким ограничением свободы личности, против любых форм рабства человека: у природы, общества, нации, государства. Много позднее, в 1939 г., он напишет об этом целую книгу. Она так и называется – «О рабстве и свободе человека». Проблема свободы в его творчестве – одна из центральных. Впервые она целостно выражена в книге «Философия свободы» (1911), а затем развиваема, пожалуй, во всех крупных сочинениях мыслителя. Проблему эту Бердяев ставит нетрадиционным образом. Он не анархист в своем умалении общественной, национальной, государственной морали перед моралью личности и не спиритуалист в утверждении первичности свободы, примата свободы над бытием. Личность для него – это предельная реализация в человеке образа Божия, и законы ее существования должны быть взяты из иного, божественного плана, а не из несовершенства эмпирической действительности. Личность реализуется только в свободе. Не в своеволии, что на деле есть лишь бессильный и безысходный протест против природной необходимости, а именно в высшей свободе, которая вкоренена в Боге и в Царствии Божием. Свобода как совершенство, как необходимое качество идеального порядка вещей превалирует над бытием – падшим, подверженным внутренней розни, тлению и смерти. Она влечет преобразить этот падающий, клонящийся к закату мир, сделать его истинно и прочно существующим, сущим как Бог, подобно Ему пребывающим в вечности.
В 1907 г. Бердяев покидает Петербург, едет в деревню, затем – в Париж и наконец при посредстве С.Н. Булгакова обосновывается в Москве. От увлечения марксизмом, от погруженности в мир искусства он переходит к духовной истине христианства. Сотрудничает с издательством «Путь», сближается с религиозно-философскими и православными кругами Москвы.
В биографическом смысле этот внутренний переворот совпадает с общим для того времени движением от эстетизма к религии, формированием в русской философии так называемого нового религиозного сознания. Но в духовном плане путь Бердяева опять-таки был оригинален. Хотя бы потому, что в отличие от своих собратьев С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского он не получил ни религиозного воспитания (как первый), ни религиозного образования (как второй). Уклад семьи был более аристократическим и светским, нежели традиционно-православным. Так что Николай Александрович в православном быте укоренен не был и к христианству подходил уже зрелым мыслителем. Но эта свобода от бытового православия и от ограниченности исторического толкования евангельских истин способствовала тому, чтобы уразумевать прежде всего высокий дух христианства, сокровенный смысл благой вести. В этом направлении и движется его мысль в 10-е гг. Он много читает: знакомится с творениями Отцов Церкви, особенно выделяя сочинения Оригена (ок. 185–253 или 254) и Григория Нисского (ок. 335 – ок. 394) с их учением о всеобщем апокатастасисе. Впоследствии со всей горячностью истинно христианской души, печалящейся о всех, он будет протестовать против учения о вечных муках, против всякой онтологии ада. В утвердившемся представлении о конце мира как судном дне он увидит не непререкаемость истины, а следствие человеческого несовершенства, ограниченность в восприятии божественного откровения. По мнению Бердяева, в область идеального и должного переносятся здесь самые темные и садистические свойства человеческой природы.
Мыслитель глубоко воспримет идею Н.Ф. Федорова об условности пророчеств Апокалипсиса, о том, что от самого человека зависит, будет ли исход истории наказанием и судом Божиим или же всеобщим спасением. Этот, по выражению самого Бердяева, «активно-творческий эсхатологизм» ложится в основу его религиозных построений.
В 1915 г. он пишет книгу «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» – своего рода манифест активного христианства. Эта книга поражает своим вдохновенным, пророческим пафосом. Христианство, утверждает Бердяев вслед за В.С. Соловьевым, есть религия Богочеловечества; главное в ней – дело преображения мира, в котором человеку отведена далеко не последняя роль. Человек продолжает «дело Божьего творения», наравне с Отцом всех участвует в строительстве Царствия Божия. Его активность не дерзость, не самозванство, а требование самого Бога. Это свободный ответ человека Богу, «сотворившему вся». Как в акте творения проявилась вся полнота Божественной любви, так в творческом акте человека проявится его ответная любовь. А полноты своей эта любовь достигнет только тогда, когда человек, сокровенный центр мироздания, надежда всей твари земной и небесной, ждущей откровения славы Сынов Божиих, достигнет совершенства и устремит к этому совершенству все сотворенное.
Смысл творчества – в созидании «новой природы», в творении бессмертной, благой жизни. Это гораздо выше производства культурных ценностей, которым пока исчерпываются результаты всякой творческой активности. Бердяев раскрывает трагедию творчества, что настигает сознательных художников в эпоху развития культуры, говорит о кризисе культуры, несоответствии результата заданию, мертвой вещи жажде создания новой жизни. Искусство лишь «понарошку», символически преображает мир. Впереди же – новая эпоха, эпоха Духа, «религиозная эпоха творчества», долгий труд обо́жения.
Более всего мыслителя занимает вопрос: как возможен этот переход – от символического творчества «продуктов культуры к реалистическому творчеству преображенной жизни, нового неба и новой земли» («Самопознание»)? В определении путей его мысль следует за Федоровым и Соловьевым. Он пишет об эросе как источнике не только родотворной, но и творческой энергии, о возможности обратить родовую энергию в энергию творчества, о необходимости метаморфозы пола. О скрытых в человеке силах и потенциях, которые в древние времена находили выход в магии, а затем – в оккультных системах и практиках. Бердяев предвидит «светлую магию» грядущего, которая будет реальным раскрытием внутренних сил человека, употреблением их на созидательное творчество в природе, осуществлением власти человека в мироздании.
Революцию 1917 г. Николай Александрович, по его словам, пережил «как момент собственной судьбы». В течение пяти лет – до высылки в 1922 г. за пределы Советской России – его деятельность подчинена главной задаче: сохранить в условиях властвующей идеологии ту свободу мысли, то высокое религиозное сознание, что было выработано в России в результате десятилетних духовных усилий. Он участвует в многочисленных диспутах, читает лекции, одна из главных тем которых – тема истории, ее смысла и оправдания. По вторникам собирает в своем доме друзей, деятелей культуры: здесь выступают с докладами на религиозно-философские темы, спорят. Основывает Вольную академию духовной культуры.
Отношение к социальным и экономическим реформам, предпринятым революцией, Бердяев выражает в книге «Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии» (1918). Он глубоко убежден в невозможности никакого освящения падшего состояния мира, в утопичности попытки построить идеальное и благополучное общество «в несовершенном и страдальческом мировом целом», где «хаос еще не претворен в космическое состояние». За вопросом о богатстве и бедности Бердяев, как и Федоров, видит другой вопрос – вопрос «о смерти и жизни», за социальным злом прозревает иное, всеобщее зло: стихийность и слепоту природной жизни, косность и непросветленность материи, смертность. Экономическая задача, задача устроения социалистического хозяйства, не может, по его мнению, быть оторвана от главной, всеобъемлющей задачи: устроения не только земного, но и всего космического хозяйства, «организации и регуляции» стихийных природных сил, одухотворения материи, победы над смертью. Здесь идеи мыслителя лежат в русле той религиозной «философии хозяйства», которая развивалась и Н.Ф. Федоровым, и В.С. Соловьевым, и С.Н. Булгаковым.
В 1922 г. Бердяев, как мы уже говорили, был арестован и выслан из страны. Его деятельность в эмиграции продолжалась более двадцати лет. Он был одним из инициаторов создания в Берлине Русского научного института и Русской философской академии. В Париже, где прожил до самой смерти, основал и возглавил издательство «ИМКА-Пресс», редактировал религиозно-философский журнал «Путь», поддерживал христианское студенческое движение. Много печатался, его работы встречали широкий отклик. В 1947 г. Кембриджский университет присвоил Николаю Александровичу звание доктора Honoris causa.
Центральной проблемой этого периода его творчества становится проблема личности. Об этом книги: «О рабстве и свободе человека» (1939), «О назначении человека» (1931), «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (1952). Еще в «Смысле творчества» Бердяев называл свое мировоззрение антропоцентризмом. Но понимал под этим не гордынное превозношение человека над природой, не оторванность его от мировой, космической жизни (именно так позднее определит антропоцентризм Н.Г. Холодный), а, напротив, поставление человека в центр Вселенной как ее духовного, экзистенциального средоточия. Такой христианский антропоцентризм Бердяев противопоставляет языческому космоцентризму: преклонению перед безграничным космосом, пред безбрежностью мировой жизни, лишенной личного начала. Он отказывается признавать в нынешнем мироздании отражение божественного, идеального строя. Гармония природы – это только гармония родовой жизни, в ней нет места личности, она растворяет в себе человека. Тот образ гармонии Вселенной, который так часто выражал себя, особенно в поэзии, может быть отнесен только к «космосу в экзистенциальном смысле», к миру, каким он должен быть.
Невозможно соединиться с мировым целым на путях простого слияния с первостихией; это будет лишь уничтожением личности. Обоготворение нынешнего несовершенного мироздания, дионисическую жажду раствориться в нем, слиться со стихиями – а ведь именно это порой вкладывают в понятие «космическое сознание» – Бердяев называет «космическим прельщением». Космическое же сознание предполагает чувство связи и родства со всем тварным миром, ответственности за него, но никак не прельщение его нынешним состоянием. Ведь это состояние есть лишь момент развития, и в активном, творческом направлении этого развития, в обо́жении мира и заключается задача человека.
<...> В то время как в официальной философии с Декарта торжествовало механическое понимание природы и не могли философы, за редкими исключениями, победить призрак мертвого механизма природы, для мистической философии природа всегда оставалась живой, живым организмом. Живой была природа для Парацельса, для Я. Беме*125 и для натурфилософов Возрождения*126. Наука послушно приспособляется к механизму природы, но философия должна прозреть за ним организм. Само давящее омертвение природы, отрицать которое нет возможности, должно быть понято из ложно направленной свободы живого. Мертвящий механизм необходимости начался от грешной, падшей свободы живых существ. Природа – органическая иерархия живых существ. Сама материальность природы есть лишь воплощение, объективация живых существ, духов разных иерархических ступеней. Но та материальность, которую отлично исследует наука, есть не только воплощение живого духа, она есть также отяжеление, сковывание и порабощение духа, на ней лежит роковая печать падения, погружения в низшие сферы. Человек – микрокосм, высшая, царственная ступень иерархии природы как живого организма. Человек-микрокосм ответствен за весь строй природы, и то, что в нем совершается, отпечатлевается на всей природе. Человек живит, духотворит природу своей творческой свободой и мертвит, сковывает ее своим рабством и падением в материальную необходимость. Падение высшего иерархического центра природы влечет за собой падение всей природы, всех низших ее ступеней. Вся тварь стенает и плачет и ждет своего освобождения. Омертвение природы и та дурная ее материализация, в силу которой все существа мира попали во власть необходимости и не находят выхода из состояния ограниченности, все пошло от падения человека, от дурного перемещения иерархического центра природы. Степень ответственности за то состояние, в котором находится омертвевшая природа, зависит от степени свободы и иерархического места в космосе. Всего более ответствен человек, и всего менее ответственны камни. Царь ответственнее, чем последний из его подданных. Падение человека и последовавшая за ним утеря царственной свободы и погружение в низшие сферы необходимости лишили человека его места в природе и поставили его в рабскую зависимость от низших сфер природной иерархии. Человек, омертвивший и механизировавший природу своим падением и порабощением, встретил отовсюду сопротивление этого мертвого механизма природы и попал в неволю к природной необходимости. Камни, растения и животные овладевают человеком и как бы мстят ему за собственную неволю. Сопротивление и власть мертвенно-окаменелых частей природы, окончательно погруженных в материальную необходимость низших ступеней природной иерархии, есть источник горя и нужды человека, сверженного царя природы. В человека проникает трупный яд окончательно омертвевших ступеней природы и мертвит человека, принуждает его разделить судьбу камня, пыли и грязи. Человек становится частью природного мира, одним из явлений природы, подчиненным природной необходимости. «Мир сей», мир природной необходимости пал от падения человека, и человек должен отречься от соблазнов «мира сего», преодолеть «мир», чтобы вернуть себе царственное положение в мире. Человек должен освободиться от низших ступеней природной иерархии, должен стыдиться своей рабской зависимости от того, что ниже его и что должно от него зависеть. Природа должна быть очеловечена, освобождена, оживлена и одухотворена человеком. Только человек может расколдовать и оживить природу, так как он сковал и омертвил ее. Судьба человека зависит от судьбы природы, судьбы космоса, и он не может себя отделить от него. Человек должен вернуть камню его душу, раскрыть живое существо камня, чтобы освободиться от его каменной, давящей власти. Омертвевший камень тяжелым пластом лежит в человеке, и нет иного пути избавления от него, кроме освобождения камня. Всем материальным своим составом человек прикован к материальности природы и разделяет судьбу ее. И падший человек остается микрокосмом и заключает в себе все ступени и все силы мира. Пал не отдельный человек, а всечеловек, Перво-Адам, и подняться может не отдельный человек, а всечеловек. Всечеловек неотделим от космоса и его судьбы. Освобождение и творческий подъем всечеловека есть освобождение и творческий подъем космоса. Судьба микрокосма и макрокосма нераздельна, вместе они падают и подымаются. Состояние одного отпечатлевается на другом, взаимно они проникают друг в друга. Человек не может просто уйти от космоса, он может лишь изменить и преобразить его. Космос разделяет судьбу человека, и потому человек разделяет судьбу космоса. И только человек, занявший место в космосе, уготовленное ему Творцом, в силах преобразить космос в новое небо и новую Землю. <...>
Восстановление человека в его достоинстве могло совершиться лишь через явление в мир абсолютного человека – Сына Божьего, через боговоплощение. Человек не только выше всех иерархических ступеней природы – он выше ангелов. Ибо ангелы – лишь оправа Божьей славы. Природа ангелов – статическая. Человек – динамичен. Человеком, а не ангелом стал Сын Божий, и человек призван к царственной и творческой роли в мире, к продолжению творения. Человек сотворен по образу и подобию Божьему; зверь – по образу и подобию ангельскому. Поэтому в мире есть динамически-творческая богочеловеческая иерархия и нетворческая, статическая ангело-звериная иерархия. <...> Динамическим, творческим центром Вселенной сотворен человек, но в исполнении своей свободы он последовал за падшим ангелом, пожелавшим стать центром мира, и потерял свое царственное место, обессилил свое творчество и впал в состояние звериное. Человек, вместо того чтобы дерзновенно определить себя как свободного творца, подчинил себя падшему ангелу. Диавол лишен творческой, динамической силы, потому что и ангел не обладает ею и не призван к ней. Падший ангел живет ложью и обманом, скрывая свое бессилие. Но человек и падший не окончательно теряет свою творческую силу. Богоотступничество и падение и есть подмена иерархии богочеловеческой иерархией ангело-звериной. Ангельское подменяет божественное, звериное подменяет человеческое. Воссоздается богочеловеческая иерархия через воплощение Сына Божьего, через боговоплощение, через явление в мир абсолютного, божественного Человека. Царственное место человека в мире укрепляется Богочеловеком и побеждается принцип падшего ангела. Новый Адам знаменует собою более высокую ступень космического творческого развития, чем Перво-Адам в раю. То ветхое сознание, для которого человек должен быть лишь статической оправой Божьей славы, существом пассивным и лишенным знания, отражало на себе подавленность падшим ангелом, возомнившим себя царем космоса. Не человек, а сам падший ангел должен быть оправой Божьей славы. Человек же призван прославлять Творца своей творческой динамикой в космосе. Он должен выйти из покоя. Адам, возрожденный через Христа в нового духовного человека, уже не пассивный и подавленный слепец, а зрячий творец. Сын Божий, продолжающий дело Отца.
Натуралистический антропоцентризм не выдерживает критики и не может быть восстановлен. Коперник и Дарвин, по-видимому, окончательно его сокрушили и сделали идею центральности человека неприемлемой для научного сознания. Замкнутое небо мира средневекового и мира античного разомкнулось, и открылась бесконечность миров, в которой потерялся человек с его притязаниями быть центром Вселенной. Коперник показал, что Земля не есть центр космоса и что не вокруг нее вращаются миры. Земля – одна из планет, место ее очень скромное. Дарвин показал, что человек не есть абсолютный центр этой скромной планеты Земля: он – одна из форм органической жизни на земле, той же природы, что и другие формы, один из моментов эволюции. Так принудила наука Землю и человека к скромности, понизила их природное самочувствие. В природном мире человек не занимает исключительного положения. Он входит в круговорот природы как одно из ее явлений, одна из ее вещей, он – дробная, бесконечно малая часть Вселенной. Теперь, когда смотрит человек ночью на звездное небо, он чувствует себя потерянным в этой бесконечности миров, раздавленным этой дурной бесконечностью. Огромные стихии природного мира, всюду возрастающие в плохую бесконечность, – дурная множественность солнечных миров и дурная множественность микроорганизмов, или, по новейшим гипотезам, супра-миров и инфра-миров, лишают человека его царственного и исключительного самосознания. Как исключительно природное существо, человек не центр Вселенной и не царь Вселенной, он один из многих и принужден бороться за свое положение с бесконечно многими существами и силами, тоже претендующими на возвышение. Но крушение натуралистического антропоцентризма, наивно прикреплявшего значение человека к природному миру, не есть еще гибель высшего самосознания человека как микрокосма, как центра и царя Вселенной. Гибнет лишь детская наука Библии, наивная библейская астрономия, геология и биология, но остается в силе религиозная библейская истина о человеке. Человек претендует на несоизмеримо большее, чем то самосознание, которое в силах дать ему натуралистический антропоцентризм. И смешны для нас притязания средневековых людей скрепить свое значение с наивной наукой детства человеческого. Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он сознает себя абсолютным центром не данной замкнутой планетой системы, а всего бытия, всех планов бытия, всех миров. Человек не только природное существо, но и сверхприродное существо, существо божественного происхождения и божественного предназначения, существо, хотя и живущее в «мире сем», но «не от мира сего». Этот абсолютный антропоцентризм, побеждающий дурную бесконечность звездного неба пребывающей в человеке вечностью, не может быть сокрушен никакой наукой, как не может быть никакой наукой обоснован – он вне досягаемости науки. Что может сказать об этом наука Коперника, Лайелля*127 и Дарвина, которая вся есть лишь приспособление к данному, ограниченному состоянию природного мира? Само это ограниченное состояние природного мира, столь экономически описываемое Коперником, Лайеллем и Дарвином, порождено падением человека, перемещением иерархического центра Вселенной. Приниженное положение, которое занял человек в данном состоянии природного мира и данной планетной системе, ничего не говорит против его центрального положения в бытии, против той абсолютной истины, что человек есть точка пересечения всех планов бытия. И Земля пала вместе с человеком, вошла в круговорот природной необходимости. Но метафизический смысл Земли раскрывается не астрономией и не геологией, а антропологической философией, философией мистической, а не научной. Что ценность и значение Земли и человека превышают весь природный мир, истина эта и должна быть скрыта для науки, приспособленной лишь к мировой данности и необходимости. Истина эта есть прорыв за пределы и грани к миру иному. В мистических учениях кроется истина о связях человека с иными планами бытия, иными планетными системами (не в природно-астрономическом, а в сверхприродно-астрологическом смысле слова), истина, сокрытая для официальной науки и официальной философии. Лишь мистически открывается, почему человек занял подчиненное положение в природном мире, в Солнечной системе.
Великий знак унижения человека виден в том, что человек свет получает от солнца и что жизнь его вращается вокруг солнца. То, что солнце извне светит человеку, есть вечное напоминание о том, что люди, как и все вещи мира, сами по себе находятся в вечной тьме, лишены внутреннего излучения света. Солнце должно быть в человеке – центре космоса, сам человек должен был бы быть солнцем мира, вокруг которого все вращается. Логос – Солнце – в самом человеке должен светить. А солнце вне человека, и человек во тьме. Свет жизни в природном мире зависит от внешнего и далекого источника. Померкнет солнце, и все существа и все предметы природного мира будут повергнуты в беспросветную тьму, жизнь прекратится, так как нельзя жить без света. И магическое действие белых ночей, и необычную красоту их можно объяснить тем, что в белые ночи не видно внешнего источника света (солнца, луны, лампы, свечи), что все предметы светятся как бы изнутри, из себя. Белые ночи романтически напоминают о нормальном внутреннем свете всех существ и вещей мира. Центральное положение солнца вне человека и зависимость от его света есть унижение человека. Предмирное падение человека было перемещением его как иерархического центра. В природном мире, в метафизическом образовании нашей планетной системы это отозвалось тем, что солнце переместилось изнутри вовне. Человек пал, и солнце ушло из него. Земля с живущим на ней человеком стала вращаться вокруг солнца, в то время как весь мир должен был бы вращаться вокруг человека и его Земли и через человека получать свет, через живущий внутри его Логос. Утеряв свою солнечность, человек впал в солнцепоклонство и огнепоклонство, сделал себе бога из внешнего солнца. Апокалиптический образ Жены, облеченной в Солнце*128, и есть образ возвращения Солнца внутрь человека. Восстанавливается правильный иерархический строй космоса. <...> Но Солнце возвращается внутрь человека лишь через воплощение в мир Абсолютного Человека – Логоса. Логос – Абсолютный Солнечный Человек, возвращающий человеку и Земле их абсолютное центральное положение, утерянное в природном мире. Высшее самосознание человека как микрокосма есть христологическое сознание. И это христологическое самосознание нового Адама превышает самосознание Перво-Адама, обозначает новый фазис в творении мира. <...>
<...> В религии богочеловеческой Богом открывается воля Божья. Но воля человеческая должна открыться самим человеком. Религия богочеловечества предполагает активность человека. Если Бог сотворил человека по своему образу и подобию и если Сын Божий – Абсолютный Человек, то это значит, что сыновний Богу человек предназначен быть свободным творцом, подобным Отцу – Творцу. Христос – Сын Божий, Искупитель и Спаситель восстанавливает надорванные и ослабленные творческие силы человека. Путь Христа есть истинное рождение Человека. По Божьей идее о человеке, которая не может быть раскрыта одним Богом, а должна быть раскрыта и человеком, человек призван продолжать дело Божьего творения. Творение мира не закончено в семь дней. Семидневное законченное творение есть ограниченный ветхозаветный аспект творения, для которого не раскрывается полная тайна творения. На ветхозаветном космогоническом сознании лежит печать подавленности грехом. Но уже новозаветная религия Христа открывает новый аспект творения. Божье творение продолжается в воплощении Христа – Логоса. Явление в мир Богочеловека – новый момент в творчестве мира, момент космический по своему значению. В откровении Богочеловека приоткрывается творческая тайна о человеке. Мир творится не только в Боге Отце, но и в Боге Сыне. Христология есть учение о продолжении творения. И завершиться может творение лишь в Духе, лишь творчеством человека в Духе. Процесс мирового творчества проходит через все Ипостаси Троицы. Мировой процесс совершается в Троице. И потому все земное на небе совершается. Тайна творения не может быть раскрыта лишь в творчестве Бога Отца, т.е. сознанию ветхозаветному. В сознании воплощения Христа как продолжения творения скрыто уже сознание творческой роли человека в мире. В Боге Сыне и Боге Духе раскрывается, что Бог продолжает творение вместе с человеком и его свободной мощью. Творческая тайна раскрывается лишь в религии Троицы, она закрыта для ветхозаветного сознания. Бог сотворил столь головокружительно, высокий образ и подобие Свое, что в самом акте Божьего творчества оправдано уже безмерное дерзновение творческого акта человека, его творческая свобода. Но официальное учение о творчестве мира в православии и католичестве ветхозаветно, в нем не раскрыта до конца тайна Христа о том, что в Христе продолжается творение человеком. Космогония христианства осталась библейской космогонией семидневного творения мира Богом отцом. Космический смысл явления Нового Адама не раскрыт христианством. И потому задача человека и мира понимается как возврат в лоно Бога Отца, к первоначальному состоянию. Лишь ветхозаветное сознание могло понять мировую жизнь как возврат, как победу над грехом, т.е. бесприбыльно. Христианская космология и космогония поистине остались ветхозаветными, они видят мир и его творчество лишь в аспекте Бога Отца. Для христианского сознания еще неведомо было творческое откровение о том, что задача человека и мира создать небывалое, дополнить и обогатить Божье творение. Мировой процесс не может быть только изживанием и искуплением греха, только победой над злом. Мировой процесс – восьмой день творения, продолжающееся творение. В мировом космогоническом процессе совершается откровение всех тайн Божьих, тайн творения и творчества. Мировой процесс – творческий процесс откровения, в котором одинаково участвуют Творец и тварное бытие. В творчестве тварного бытия раскрывается Сын Божий и Дух Божий. Творящий человек причастен природе Божественной, в нем продолжается богочеловеческое творение.
Научно-позитивная, эволюционная теория развития консервативна, она отрицает творческий характер развития, не допускает прироста, прибыли в мире. Для материализма и эволюционизма в мире ничто не творится, а лишь перераспределяется. Мир – замкнутая данность, мир инертен. Эволюционизм отрицает творческий субъект. Творчество есть свобода; эволюция есть необходимость. Творчество предполагает личность; эволюция безлична. Так, например, дарвинизм есть пассивно-послушное описание факторов рабской необходимости в природном бытии без прозрения скрытой за этой необходимостью свободы творящего. В дарвинизме есть несомненная истина, ибо в данном природном состоянии царит борьба за существование и естественный подбор приспособленных. Но много раз уже указывали, что творческий агент развития для дарвинизма скрыт, что в этом учении нет субъекта развития. Поэтому недостаточность и неполнота дарвинизма теперь все более и более сознаются в научных и философских кругах. Дарвинизм остается лишь опытом экономически приспособленного описания внешних факторов развития, его «как». Внутрь всякого развития дарвинизм не проникает, он игнорирует творческий субъект. Между тем как саму подчиненность борьбе за существование и естественному подбору можно рассматривать как одно из состояний творческого субъекта, как его падение, погружение в низшие планы бытия и приспособление к последствиям падения, т.е. как ослабление его творческой силы. Наука может лишь описывать факторы борьбы за существование и естественного подбора, но философия ставит вопрос о происхождении такого порядка природы. В сущности, дарвинизм не в силах объяснить начала развития, как не знает его конца, он описывает лишь середину процесса развития и внешние его факторы. Ложна та философия, которая хочет сделать из дарвинизма метафизику бытия. Дарвинизм лишь красноречиво говорит о нетворческом состоянии нашего мира, о подавленности творческого субъекта в природной эволюции. Не менее красноречиво говорит об этом и марксизм. Марксистское учение о социальном развитии такое же консервативное, нетворческое, такое же покорное необходимости, как и дарвинистическое учение о биологическом развитии. Марксизм так же отрицает творческий субъект, как и дарвинизм. И для марксизма развитие есть лишь перераспределение социальной материи, не знающее абсолютной прибыли. Марксизм не знает личности, не знает свободы и потому не знает творчества. В марксизме есть доля истины, говорящая о подавленности творческого субъекта, о подавленности человека. Но ложь марксизма в том, что он выдает себя за метафизику бытия. Нетворческое, консервативное эволюционное учение, как оно лучше всего отразилось в дарвинизме и марксизме, религиозно целиком пребывает в эпохах закона и искупления. Эволюционизм учит о греховности человека. Наука всегда имеет дело с грехом и его последствиями. Наука, подобно государству, ветхозаветна и не знает творчества. И удивительнее всего эта солидарность научного сознания и сознания религиозного в отрицании творчества. Научное отрицание творчества порождено религиозным отрицанием творчества. Механический и материалистический взгляд на природу мира есть лишь обратная сторона христианско-аскетического мироощущения. Христианство изгнало духов природы и тем механизировало природу. В этом смысле наука – порождение христианства. Наука вся находится во власти христианского сознания греха и падения. Наука и религия одинаково загипнотизированы искуплением греха и необходимостью, порожденной грехом. Ортодоксальное православное сознание так же не допускает творчества и боится его, как и ортодоксальное научное сознание.
И теософические учения, пытающиеся синтезировать науку и религию, нередко принимают форму учений об эволюции нетворческой. Теософический эволюционизм нередко оказывается родственным эволюционизму натуралистическому. Но теософическое сознание, как и сознание православное, понимает, что этот природный порядок есть результат погружения человека в низшие сферы бытия, инволюции в материю, чего не понимает натуралистически-эволюционное сознание. Подавленность творческого субъекта отражается и в науке, и в религии, и в теософии. Платонизм, который очень силен и в религии, и в философии, и в науке, скорее статичен, чем динамичен, и в последнем смысле отрицает творчество и признает лишь приближение к первообразам и идеям, предвечно сущим. Наука вся проникнута духом послушания и аскетизма. Для науки так же демоничен творческий порыв, как и для православия. В известном смысле дарвинизм и марксизм незаконные, побочные дети христианства дотворческой эпохи.
Творческая эпоха должна создать новое, творческое учение о человеке, о мире и его развитии. Творческое развитие должно быть открыто в мире, а не эволюция*130. Познание творческой эпохи активное, не пассивное, оно предполагает творческое усилие и потому открывает творчество. Познание же эволюции было лишь пассивным приспособлением. Учение о творческом развитии предполагает свободу как основу необходимости и личность как основу всякого бытия. Старый спиритуализм, христианский или просто философский, учил о свободе воли и о субстанциальности личности, но не учил о творчестве. Спиритуализм этот был совершенно пассивен, в нем чувствовалась такая же подавленность творческого, субъекта, как и в материализме. В старом спиритуализме идея свободы лица вела лишь к сознанию ответственности и греховности, но не к сознанию творческой мощи. В самом бытии творческая мощь находилась в состоянии потенциальном и подавленном – так было и в спиритуалистическом познании. Переход творческой мощи в состояние динамическое в бытии породит и иное познание. Ибо познание есть бытие. Новое познание о творческой мощи человека и мира может быть лишь новым бытием. Творческие порывы нового человека являются симптомом нарождения нового бытия и нового познания. В состоянии пассивности перед необходимостью можно познать лишь эволюцию в мире; в состоянии активном и прорывающемся к свободе можно познать творческое развитие в мире. До сих пор и религиозное и научное сознание выражали такое состояние бытия, в котором нельзя познать творческой мощи и творческого развития. Только философия действия познает творческую динамику бытия. Мистическая философия в преобладающей своей форме пассивно-созерцательная. Потому и ей не открывалась тайна творчества. <...>
<...> Существуют элементарные формы рабства человека у природы, на которые он не дает сознательного согласия. Таково насилие природной необходимости над человеком, природной необходимости вне человека и внутри его. Это есть рабство у так называемых «законов» природы, которые открывает и конструирует человек своим научным познанием. Человек борется с насилием этой природной необходимости через познание этой необходимости, и, может быть, лишь к этой сфере применимо то, что свобода есть результат необходимости, сознанность и познанность необходимости. Техническая власть человека над природой с этим связана. В этой технической власти человек освобождается, частично освобождается от рабства у стихийных сил природы, но легко попадает в рабство у самой созданной им техники. Техника, машина имеет космогонический характер и означает появление как бы новой природы, во власти которой находится человек. Дух в этой борьбе создает научное знание о природе, создает технику и экстериоризируется, объективируется, попадая в рабскую зависимость от собственной экстериоризации и объективации*132. Это есть диалектика духа, диалектика экзистенциальная. Но существуют более утонченные формы космического прельщения и рабства, на которые человек дает свое согласие и которые готов пережить экстатически. С природой, основанной на детерминизме и закономерности, человек борется. Но иное отношение у него к космосу, к тому, что представляется ему мировой гармонией, к мировому целому, единству и порядку. Тут соглашается он увидеть отображение божественной гармонии и порядка, идеальную основу мира. Космическое прельщение имеет разнообразные формы. Оно может принимать формы прельщения эротико-сексуального (Розанов*133, Лавренс*134), национально-народного (мистика народничества), теллургического (возврат к земле, расизм), прельщения коллективно-социального (мистика коллективизма, коммунизм). Дионисизм в разнообразных формах означает космическое прельщение. Это есть жажда слияния с материнским космическим лоном, с матерью-землей, с безликой стихией, освобождающей от боли и ограниченности личного существования, или с безликим коллективизмом – национальным или социальным, преодолевающим раздельное, индивидуальное существование. Всегда это означает экстериоризацию сознания. У человека, задавленного условностью цивилизации, ее порабощающими нормами и законами, есть жажда периодически возвращаться к первожизни, к космической жизни, обрести не только общение, но и слияние с космической жизнью, приобщиться к ее тайне, найти в этом радость и экстаз. Романтики всегда требовали возврата к природе, освобождения от власти разума, от порабощающих норм цивилизации. «Природа» романтиков никогда не была «природой» естественнонаучного познания и технического воздействия, не была «природой» необходимости и закономерности. Совсем иное значит природа у Руссо, она иное значит и у Л. Толстого. Природа божественна, благостна, она приносит излечение больному и разорванному человеку цивилизации. Этот порыв имеет вечное значение, и периодически человек будет им захвачен. Но обнаруживающееся здесь отношение к природно-космическому основано на иллюзии сознания. Человек хочет победить объективацию, вернуть экстериоризированную, отчужденную природу, но не достигает этого реально, экзистенциально. Он ищет спасения от необходимости природы в свободе космоса. Слияние с космической жизнью представляется свободной жизнью, свободным дыханием. Борясь с необходимостью природы, человек создал цивилизацию, воздух которой удушлив, нормы которой не дают свободы движения. В самой жажде общения с внутренней жизнью космоса есть большая правда, но эта правда относится к космосу в экзистенциальном смысле, а не к космосу объективированному, который и есть природа с ее детерминацией. Космическое прельщение обыкновенно означало жажду слияния с душой мира. Вера в существование души мира есть вера романтическая. Обосновывается же она обыкновенно на философии платонистической. Но существование космоса как мирового единства и гармонии, существование души мира есть иллюзия сознания, порабощенного и раненного объективацией.
Нет иерархического единства космоса, в отношении которого личность была бы частью. Нельзя апеллировать к целому природы с жалобой на беспорядок частей. Целое находится в духе, а не в природе. Апеллировать можно только к Богу, а не к мировой душе, не к космосу как целому. Идея мировой души и космического целого не имеет экзистенциального значения. Науки о природе также не имеют дела с мировым целым, с космическим единством, они познают именно частичность природы и не благоприятны оптимистическому взгляду на космос. Современная физика одинаково отрицает и космос в античном смысле слова, и старый детерминистический материализм. Что мир частичен, что нет мира как целого и единства – это вполне согласно с революцией в современной физике. Целого и единства можно искать только в духе, не отчужденном от себя и не объективированном. Но тогда целое и единство приобретают другой смысл и не означают подавления «частного», множественного, личного. Также противоречит философии личности и свободы телеологическое понимание*135 мирового процесса. Против объективной телеологии восстает не только детерминизм, причинное объяснение явлений природы, но и свобода. Объективная телеология космического процесса сталкивается со свободой человека, с личностью и творчеством и в сущности означает идеальный, спиритуализированный детерминизм. Объективный мир совсем не целесообразен, или, вернее, его целесообразность лишь частичная, она имманентна процессам, происходящим в известных частях мира, но ее нет в столкновении и взаимодействии этих частей, ее нет и в целом, ибо и целого нет. Бесконечность объективированного мира не может быть космическим целым. Случай играет огромную роль в мировой жизни, и он не означает просто незнания. Если произойдет столкновение планет и результатом его будет космическое разрушение, т.е. нарушение космического лада, то это совершенно нецелесообразно и даже не необходимо в смысле существования закона для этого столкновения. Это случайное явление. Совершенно так же, как если с человеком «случится» автомобильная катастрофа, то это будет несчастный случай, нет закона для этой катастрофы. <...> Например, чудо совсем не означает нарушения каких-либо законов природы, это есть явление смысла в человеческой жизни, обнаруживающееся в природной среде, подчиненной частичным законам. Это есть прорыв духовной силы в природный порядок, который в своей изолированности представляется закономерным. Нет законов целого, законов космоса. И закон всемирного тяготения совсем не есть космический закон, он частичен и относится к частичному. Бутру*136 верно говорит о случайных законах природы. Все, что я говорю, совсем не значит, что в природе происходит механическое сложение и сцепление элементов. Механический взгляд на природу никуда не годится, и можно считать его совершенно опровергнутым. Это такой же ложный монизм, как и допущение существования мировой души и предустановленной мировой гармонии, отражающей гармонию божественную. Натурфилософия всегда имеет монистическую тенденцию, она может быть спиритуалистической и механической. Но допущение мировой души и космической гармонии есть натурализм. В натурализм впадают и тогда, когда утверждают идеальные начала космоса, когда учат о Софии, пронизывающей и окутывающей всю космическую жизнь. Такого рода ви́дение космоса есть иллюзия сознания, основанная на непонимании того, что природный порядок есть продукт объективации, не воплощение духа, а отчуждение духа. Ложное гипостазирование космических начал, сил, энергий, качеств глубоко противоположно персоналистической философии и порабощает человеческую личность космической иерархией. Это мы видим во многих теософических и оккультных течениях.
В объективированной природе нельзя искать души мира, внутренней жизни космоса, потому что она не есть подлинный мир, но мир в падшем состоянии, мир порабощенный, отчужденный, обезличенный. Правда, мы прорываемся ко внутренней космической жизни, к природе, в экзистенциальном смысле через эстетическое созерцание, которое всегда есть преображающая творческая активность, через любовь и сострадание, но это всегда означает, что мы прорываемся за пределы объективированной природы и освобождаемся от ее необходимости. То, что я называю космическим прельщением, есть экстатический выход за пределы личного существования в космическую стихию, надежда на приобщение к этой первостихии. На этом были основаны все оргиастические культы. Но это всегда было не столько выходом из замкнутого существования личности к мировому общению, сколько снятием самой формы личности и ее растворением. Это есть порабощение человека космосом, основанное на иллюзии приобщения к его внутренней бесконечной жизни. Изображение космического прельщения мы находим в гениальной, хотя незаконченной трагедии Гельдерлина «Смерть Эмпедокла»*137. Объективированная природа с ее детерминизмом мстила за свое кажущееся отрицание и делала человека рабом, но психологически это носило иной характер, чем обыкновенная природная детерминация. Космическая душа, душа мира, не имеющая внутреннего существования, делается силой, обволакивающей человека и поглощающей его личность. Так происходило возвращение к языческому космоцентризму, духи и демоны природы вновь поднимались из закрытой глубины природной жизни и овладевали человеком. Человека периодически охватывала та демонолатрия, от которой освободило его христианство. Языческий космоцентризм ставится на место христианского антропоцентризма. Но в космическом прельщении, как и во всяком почти прельщении человека, ставится тема, которая имеет значение и требует разрешения. Человека справедливо мучит его отчужденность от внутренней жизни природы, он не может вынести давящего механизма природы, он в сущности хочет возвращения космоса внутрь человека. Отпадение человека от Бога повело за собой отпадение космоса от человека. Это и есть падшесть объективированного мира. Но вернуть себе космос человек не может на путях космического прельщения. От рабства у механизма природы он возвращается к рабству у пандемонизма природы. Мы и присутствуем как бы при освобождении демонов природы, которые овладевают человеком. Слияние с космической жизнью не освобождает личность, а растворяет и уничтожает ее. Меняется форма рабства. Это имеет роковые последствия в социальной жизни, в отношениях личности и общества. Общество внедряется в космос, понимается как организм, имеющий космическую основу. При этом личность неизбежно подчинена и порабощена органическому и в конце концов космическому целому, человек становится лишь органом, и отменяются все свободы человека, связанные с его духовной независимостью от общества и природы. Космизм в социальной философии носит в сущности реакционный характер, прежде всего духовно реакционный. Экзальтируется идея организма и органического. Это есть иллюзорно-космическое, мистико-биологическое обоснование социальной философии. Часто подчеркивается космичность крестьянства, в противоположность не органическому характеру других классов, особенно интеллигенции и рабочих. Активное вторжение народных масс в историю может представляться явлением космического значения, и в известном смысле это верно. Но это вторжение масс связано как раз с возрастанием роли техники за счет духовной культуры и, значит, с еще большим отрывом от природы. Человек движется в порочном кругу. Прорыв из этого порочного круга есть акт духа, а не подчинение органическому космическому ритму, которого в объективированной природе по-настоящему не существует. Власти космически-органического над человеческим духом нужно противопоставлять не механически-техническое, не рационализацию, а свободу духа, начало личности, не зависящее ни от организма, ни от механизма. Это вполне аналогично тому, что объективной телеологии нужно противопоставлять не детерминизм, а свободу. Рабству человека у общества нужно противопоставлять не разум рационализма или природу, признанную благостной, а дух, свободу духа и личность, в своем духовном качестве не зависящую от общества и природы. Это приводит нас к вопросу о рабстве человека у общества.
 В.Н. Муравьев по рождению и образованию принадлежал к потомственной русской аристократии. Старинный дворянский, графский род Муравьевых особо отличился на высшей государственной и военной службе, многие из его представителей вошли в историю: среди них и знаменитые два брата – декабристы, и двоюродный дед Валерьяна Николай Муравьев-Амурский, получивший дополнительный эпитет к фамилии по области, присоединенной им к России. Да и отец философа Николай Валерьянович Муравьев (1850–1908) почти 12 лет, до 1905 г., занимал пост министра юстиции в правительстве Николая II, был известен и как выдающийся оратор, крупный ученый-юрист. Валерьян получил имя в честь деда, псковского губернатора, а позднее сенатора.
В.Н. Муравьев по рождению и образованию принадлежал к потомственной русской аристократии. Старинный дворянский, графский род Муравьевых особо отличился на высшей государственной и военной службе, многие из его представителей вошли в историю: среди них и знаменитые два брата – декабристы, и двоюродный дед Валерьяна Николай Муравьев-Амурский, получивший дополнительный эпитет к фамилии по области, присоединенной им к России. Да и отец философа Николай Валерьянович Муравьев (1850–1908) почти 12 лет, до 1905 г., занимал пост министра юстиции в правительстве Николая II, был известен и как выдающийся оратор, крупный ученый-юрист. Валерьян получил имя в честь деда, псковского губернатора, а позднее сенатора.
Родился Валерьян в Москве, куда за год до того перевели его отца на должность прокурора второй столицы. С ранних лет будущий философ жил и воспитывался в Англии, а завершил свое образование в Петербурге, в привилегированном закрытом высшем учебном заведении, где потомственных дворян готовили на важные посты в государстве, – Императорском Александровском лицее (прежний Царскосельский, связанный для нас прежде всего с именем его выпускника Пушкина). Университетская программа юридических факультетов была здесь дополнена изучением самых разнообразных гуманитарных предметов. Блестяще образованный, свободно владевший основными европейскими языками, Валерьян Николаевич начинает дипломатическую карьеру: с 1907 по 1913 г. работает сотрудником русских посольств в Париже, Гааге, Белграде, во время первой мировой войны он служит в центральном аппарате министерства иностранных дел, а после февральской революции заведует отделом балканских стран, становится начальником политического кабинета этого министерства. Хотя в детстве Валерьян был погружен в среду придворной консервативной аристократии, в молодости он тяготел по своим политическим убеждениям к нарождающемуся русскому либерализму: ближе всего ему была партия конституционных демократов, оформившаяся в 1905 г. (кстати, одним из ее организаторов и бессменных членов центрального комитета был В.И. Вернадский). Октябрьская революция была поначалу воспринята Валерьяном Муравьевым как национальная катастрофа. Он среди участников сборника «Из глубины» (1918), запрещенного цензурой и уничтоженного (всего несколько экземпляров его попали за границу). Это издание и по составу авторов, и по развиваемым взглядам было непосредственным преемником знаменитых «Вех» (1909). Для предостерегающего слова в них объединились те духовные деятели (П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк и др.), которые резко выступали против господствовавших тогда среди интеллигенции социалистических и атеистических идей, установки на очистительный революционный катаклизм. И вот буря разразилась и заодно смела и саму ее идейную вдохновительницу. И уже «из глубины» той бездны, куда моментально скатилась огромная страна, ее народ, культура и нравственность: Россия билась в корчах братоубийственного безумия, зловредная «идейная» прививка воспламенила ее организм манией злого саморазрушения, – раздались те же искаженные страданием, но пытающиеся понять и помочь голоса лучших русских мыслителей.
В этом своего рода первом философско-религиозном консилиуме происходящей революции голос Валерьяна Муравьева не затерялся. В коллективный диагноз национального недуга, который ставила здесь блестящая когорта имен, он внес свои уточнения и оттенки, в которых уже чувствуется вдохновляющее веяние идей Н.Ф. Федорова. В статье «Рев племени» прозвучала прежде всего критика безответственного теоретизма, односторонней «умственности», которыми страдала русская интеллигенция, оторвавшаяся от цельного религиозно-соборного мировоззрения (его автор усматривает в древней, до-петровской Руси), от органического восчувствия связи времен и поколений; увлекшись «ложным маревом» социалистически-атеистических западных идей, она принесла их своему народу как высшую истину земного устроения, а он понял и принял их по-своему, т.е. конкретно-практически, как «идеальное оправдание темных инстинктов» и «низменных влечений». Встреча русской интеллигентско-революционной мысли и русского действия оказалась роковой для самих носителей этой мысли. Ибо в ней самой оказался серьезный дефект, который в своей реализации стократно умножился и кроваво опошлился. Ее опасный утопизм – прежде всего в непонимании того «главного препятствия для социальной революции», которое, по выражению Муравьева, «лежит в невозможности строить совершенный закон при несовершенных людях».
Муравьев призывает к созданию нового органического мировоззрения, в котором будут соединены мысль и дело, опора на прошлое и порыв в «просторы Вселенной», но черты его рисуются пока лишь в самом общем, поэтически-метафорическом виде. Положительное детальное раскрытие своего активно-эволюционного идеала философ предпримет через несколько лет в работе «Овладение временем».
Но до этого Валерьяна Николаевича ждут тяжкие личные испытания; он попадет в жесткие шестеренки революционного правосудия. Его арестовывают как «деятеля» так называемого тактического московского центра. По версии чекистов, это была мощная шпионско-диверсионная организация, якобы координировавшая все контрреволюционные силы в России. На деле схватили многих интеллигентов, так или иначе связанных с кадетами (известно, что и Н. Бердяева привлекали по этому же полумифическому делу). Вместе с «руководителями» этого «центра» Муравьев в сентябре 1919 г. был приговорен к расстрелу. Но к счастью, эта высшая мера классовой защиты так и не сработала в его случае: вмешался всесильный тогда председатель Реввоенсовета Лев Троцкий. Он лично был знаком с Валерьяном Николаевичем, ценил его ум и ученость, некоторое время даже переписывался с ним, обсуждая теоретические проблемы политики, в которых Муравьев был большой знаток. Однако из тюрьмы Валерьян Николаевич вышел только в 1922 г, и вскоре поступил на советскую службу, пройдя последовательно несколько ее свежеиспеченных учреждений: вначале он работает переводчиком в Народном комиссариате иностранных дел, затем сотрудником библиотеки Совета народного хозяйства, потом в Рабоче-крестьянской инспекции и наконец ученым секретарем Центрального института труда, организованного известным пролетарским поэтом Гастевым. Это были достаточно скромные занятия для исключительно образованного, талантливого и творческого человека, но на большее такой явный «бывший» и не мог рассчитывать. Впрочем, Муравьев в эти годы проявлял полную лояльность по отношению к новому режиму. Знавшие его свидетельствуют, что в определенном смысле он был «более большевик, чем сами большевики». Идейная эволюция Муравьева тут налицо. Вначале была сознательная оппозиция революции. В статье «Рев племени» он представил образ двух противоборствующих сил: пьяной, безбожной бунтующей толпы и благородного русского рыцарства, готового постоять за культурные и религиозные святыни Родины, – и сам при этом почти неудержимо влекся в его ряды. А сейчас, так пострадав от новой власти, чудом избежав расправы в подвалах Чека, он вдруг, и не один, а с целым рядом культурных деятелей того времени, возложил упования на то, что социальный переворот трансформируется в «третью революцию духа» (Маяковский), что откроется новая творческая эпоха покорения стихийных разрушительных сил, борьбы со смертью, преображения природы мира и самого человека. Через гастевский институт, публикуя в его журнале «Организация труда» свои заметки, рецензии, обзоры, Муравьев пытался внедрить, как он сам выражался, «федоровские установки» на труд как на основное средство такого планетарно-космического преобразования.
В предисловии к «Овладению временем» Муравьев объясняет свою новую позицию. Он замечает, что в эпохи радикального революционного переворота, бурного вскипания общественных сил обнаруживается и особенная дерзновенность мысли и поиска, причем не только в той области, которая в данный момент подвергается перестройке, т.е. социальной, а в значительно более широкой, связанной с первичными, онтологическими реальностями человеческого бытия. Так, Великая французская революция ознаменовалась рывком в небо, следующим шагом в завоевании пространства (полет на воздушном шаре братьев Монгольфьер), а также дерзновенным посягательством на самую «сокровенную проблему» жизни, «проблему ее длительности» (идеи французского философа-просветителя Кондорсе (1743–1794) об индивидуальном физическом бессмертии). Факт, казалось бы, удивительный! Революция обычно выявляет скрежещущие диссонансы человеческой природы, обрекающие на фиаско все ее идеальные теоретические построения, однако сам порыв к преобразованию активизирует мысль, и она ищет более существенной области для приложения этого порыва, такой, которая сможет на более глубинном уровне действительно гармонизировать натуру человека. Октябрьская же революция, по мысли Муравьева, еще глубже и болезненнее копнув социальные и культурные основы жизни, чем все предыдущие, подвела мысль к «другой, еще более обширной задаче преобразования основных законов самой природы, поскольку эти законы противоречат идеалам нашего разума и воли».
Философ в эти годы горит желанием участвовать в созидании «новой и небывалой культуры» – творчества самой Жизни.
Но срок его свободы уже подходил к концу, продлившись всего семь лет. В 1929 г., в трагический год «великого перелома» станового хребта страны, сокрушительного разгрома церкви, закручивания до предела идеологических гаек, он был снова арестован и в 1930 г. сослан в Западную Сибирь, в Нарым на Оби, печально знаменитое, насиженное еще ссыльными революционерами место. Там он устроился работать на метеорологическую станцию, но уже в 1932 г. его настигла смертельная болезнь, спутница войн, революций, разрух, ссылок – сыпной тиф. (Существует версия, что он погиб в те же годы на Соловках.)
Самым плодотворным творческим периодом биографии Муравьева были как раз эти семь лет – от тюрьмы до тюрьмы. Жил он интенсивной духовной жизнью, общался с московским религиозно-философским кружком имяславцев, но главным для себя считал дальнейшее научное развитие идей своего учителя – Николая Федорова. Валерьян Николаевич сближается с двумя самыми значительными последователями учения «общего дела» – А.К. Горским и Н.А. Сетницким, которые также живут в Москве в 20-е гг. Вокруг Муравьева организовался кружок молодых людей, его бывших студентов по так называемому Институту живого слова, открытому в 1918 г. при содействии Луначарского, но вскоре прекратившему свое существование. В этом кружке, по свидетельству дочери Сетницкого – Ольги Николаевны Сетницкой, взятому из ее неизданной пока биографии Горского, шло изучение русской философской мысли, и прежде всего Федорова. Здесь писались и обсуждались рефераты, возникали идеи совместных трудов. В 1923 г. готовился коллективный сборник под названием «Трудоведение», основными его авторами были Муравьев, Горский, Сетницкий. Именно для этого сборника Валерьян Николаевич пишет статью «Всеобщая производительная математика», публикуемую в данной антологии. (Попытка же обнародовать его в то время уперлась в цензурный запрет.) В 20-е гг. Муравьев создает значительное количество философских и художественных произведений. В настоящее время они хранятся в рукописном отделе Российской государственной библиотеки. Это и философские диалоги «Софья и Китоврас», и роман «Остров Буян», и пьеса «Советник смерти», и философские статьи, и цикл афоризмов и мыслей. Этот интереснейший архивный фонд, лишь недавно обнаруженный, нуждается в исследовании и публикации. При жизни же Валерьян Николаевич сумел напечатать только одно свое философское сочинение, причем на собственные средства, – «Овладение временем» (М., 1924). Это было так называемое «Издательство автора». Книга Муравьева прошла абсолютно не замеченной советской критикой, но в эмигрантских журналах появился ряд откликов на нее. Однако и на родине слух об этой работе постепенно рос, и тираж ее между 1926–1930 гг. разошелся полностью (что происходило далеко не со всеми изданиями такого рода). Так и остался Муравьев и в наше время, начавшее заинтересованно оборачиваться к его наследию (так, в 1986 г. в ФРГ на русском языке переиздали его «Овладение временем»), прежде всего автором этой работы. На основных ее положениях мы коротко и остановимся.
Развитые здесь идеи позволяют с полным правом отнести Муравьева к плеяде активно-эволюционных, космических мыслителей. Вклад его в эту мысль связан прежде всего с оригинальной постановкой вечной философской проблемы времени. Всплеск интереса к данной проблеме в нашем веке проявился в самом широком развороте: физическом, биологическом, философском-достаточно наззать имена Эйнштейна, Вернадского или Бергсона. Свой подход Муравьев обосновывает еще одной известной теорией, на этот раз математической, – теорией множеств Георга Кантора. Все в мире, рассуждает автор «Овладения временем», есть та или иная совокупность множественностей, каждая из которых – тоже своя множественность элементов. Время для нас по существу лишь показатель меняющегося положения этих множеств, показатель движения, изменения, смены вещей. Время считается необратимым, но если научиться возобновлять ту комбинацию элементов вещи, которая была до ее изменения или исчезновения (а ведь это изменение и зафиксировано для нас как определенное «время»), то, «воскресив» вещь, мы тем самым сумеем преодолеть необратимость времени, управлять им. Впрочем, в культуре в широком ее смысле – от искусства до производства – человек постоянно осуществляет «воскрешение» вещей и процессов. Культура – это и есть непрерывная, из поколения в поколение передача определенных «формул» и рецептов, по которым люди оказываются способными возобновлять вещи – все что хотите, от стула до машины, от стихосложения до управляемых физических и химических реакций. С этой точки зрения культура – прежде всего деятельность времяобразующая. Но ее время особое: «внутреннее», «организованное, сознательно творимое», подвластное человеку, пусть только в известных пока пределах. Оно противостоит времени «внешнему», «всеуносящей реке Гераклита», ее закону роковой неизбежности разрушения и смерти. Речь в книге Муравьева по существу идет о том, чтобы первое «внутреннее», культурное время максимально расширить, вывести его из пределов символически-художественной или производственной деятельности, начав овладевать реальным, биологическим временем – от омолаживания человеческого организма (что для нас есть наиболее наглядная победа над неумолимо необратимым временем индивидуальной жизни) до восстановления бывших «комбинаций» ушедших в смерть сознательных, чувствующих существ, т.е. их воскрешения.
Муравьев делит всю культуру на два типа: символическую и реальную. В первую входят все искусства, те, что, по Федорову, мнимо «воскрешают» исчезнувшее, останавливают время в узких пределах идеально существующей эстетической вещи, а также теоретические науки, знание в целом, вырабатывающие проекты и символы для возможного действия. Во вторую – те роды деятельности, которые не символически, а реально изменяют мир: генетика – ее автор понимает как область «созидания жизни или сотворения новых живых существ или воскрешения старых»; политика и этика – они регулируют отношения между людьми в общественном и личном плане; и производство, занимающееся преобразованием материальной стороны окружающего. Однако ни символическая, ни реальная культура по-настоящему еще не овладевают временем жизни, работают вразброд, стихийно и не столько на «времяпреодоление», сколько на «времяпрепровождение». «Культура эта поэтому пребывает в виде пролога, который не развертывается в настоящее действие». Таким действием для Муравьева является федоровское «общее дело»: это и регуляция разрушительных стихий, и овладение силами земного тяготения, и превращение Земли в «послушный космический корабль» («Люди овладеют не только Землею, но всею Солнечною системою, станут факторами космического преобразования»), и трансформация символического искусства в синтезе с наукой в теургическое, в творчество новых жизненных форм, и преображенное восстановление бывших и исчезнувших («Генетика превращается в анастатику, искусство рождать в искусство воскрешать»).
Путь к овладению временем Муравьев видит в «организации множественности через коллективное дело». У Федорова в субъекте «общего дела» в пределе должны быть все, а в объекте – всё. Муравьев обосновывает эту необходимость так: каждый элемент любого множества сопряжен с совокупностью других множеств и в конечном итоге со всем универсумом; это и предопределяет для успеха воскресительного, время-преодолевающего действия его вселенский, космический характер. Но состояться это действие не может сразу тотально и всеохватно, это было бы во всех смыслах безнадежной утопией. Основная тактическая идея Муравьева – постепенность, последовательное расширение «островков» власти человека над временем, от самых малых до все более обширных. Это касается не только сфер регулирующего воздействия на мир, но и объема человеческих групп, участвующих в этом деле. К космосу и бессмертию личность растет через иерархию «все более широких множеств или коллективов», стремящихся в идеале к соборному всечеловеческому единству, где и осуществится чаемый синтез «личностности и вселенскости». Правда, следуя за Федоровым в его задаче преодоления на всех уровнях бытия розни и неродственности, как предна-чал хаоса и смерти, Муравьев изредка поддается, в отличие от учителя, смущениям и вихрям своей революционной эпохи: в его книгу неожиданно залетают жесткие акценты, скажем угрозы принуждения тем группам и даже народам, которые откажутся от участия в общем деле. Увы, не он один отдавал дань соблазнам благого насилия над «неразумными» или даже селективным мотивам – вспомним Сухово-Кобылина или Циолковского. Но всегда это был явно наносной, вредный балласт их мысли, не совместимый с ее общим пафосом.
У Муравьева, как у всех космических мыслителей, человеческий разум, сознающий внутреннее стремление эволюции «от бескачественности или низкокачественности к улучшению», призван стать основным орудием дальнейшего восхождения бытия на все более духовную ступень, когда стихийно текущее время сменится управляемым, выйдет в вечность или, как он ее называет, «всевременность». Интересны при этом замечания автора о типе воздействия сознания на мир; мыслитель считает его не столько механическим или физическим, сколько «химическим», наподобие фермента или энзима: достаточно дать некий каталитический толчок преобразованию, и далее реакция, «перегруппировка» идут уже в самом объекте или системе их силами и энергиями. Побеждающее время человечество становится хозяином не только собственной жизни, делаясь в каждом индивиде все больше «причиной самого себя», но и природы и космоса, устанавливая такой тип нового братского управления собой и миром, который Муравьев называет «космократией» или в другой своей работе – «Всеобщая производительная математика» – «пантократией». Эта статья была напечатана в 1934 г. в Риге во втором выпуске федоровского сборника «Вселенское дело», где с опозданием в два года появился также первый и единственный некролог погибшему философу. В статье в сжатом виде изложены многие важнейшие идеи автора «Овладения временем».
Характерной чертой современной жизни является устремленность ее в сторону творчества и строительства. Перед нами во всех областях властно встают вопросы труда и производства, и, работая над ними, все более и более мы ищем путей действительного созидания. Все более и более мы требуем от человеческой деятельности положительных результатов, реально изменяющих мир.
Вместе с тем чем больше мы отдаемся этим задачам и чем разностороннее стремимся их осознать, тем яснее становится для нас, что такая деятельность есть не только работа, но вместе с тем и борьба. Мы восстаем против косных и слепых сил природы и пытаемся заменить их действие деятельностью нашей воли, осуществляющей, вместо их бессмысленных велений, цели нашего разума. Уже давно человечество, вооруженное наукой и техникой, во всех странах мира ведет эту войну против разрушительной мощи стихий, уничтожающих не только начинания человека, но и самого человека. И становится ясным, что эта борьба, с целью овладения природой и управления ею, есть реальная задача всякого хозяйствования, одинаково в форме регулирования естественных сил и в форме производства или преобразования материального мира. В связи с этим лозунгом современной производительной деятельности, поскольку последняя является синтезом созидательных человеческих процессов, становится окончательное освобождение человека от сковывающего его рабства природе и установление его сознательной власти над последней. И когда мы говорим о грядущей эпохе новой культуры, мы можем вместе с тем наметить главные ее черты – направление различных видов человеческой деятельности именно в эту сторону. Рядом с первичной данной нам природой, являющейся в результате действия слепой и бессмысленной стихии, мы должны трудом нашим создать вторичную природу, построяемую согласно проектам нашего разума51. Характерно, между прочим, что наш язык как будто предугадал необходимость полного отождествления велений естественной причинности с нормами, устанавливаемыми человеком: и те и другие называются на нашем языке законами. Превращение законов природы в законы, ей предписываемые разумом, – вот цель производительной деятельности, связанной с культурой. Как учил еще Герцен, природа должна превратиться в историю*140.
Из этого определения основной задачи производительной деятельности человека вытекает особое значение сознания – как силы, превращающей первобытную стихию в культуру. Первичная природа – это природа без человеческого разума, вторичная природа – это природа, обработанная разумом. Поэтому перед нами становится вопрос о роли сознательного усилия человека, выражающегося в умственном труде, и о методах, им употребляемых в процессе творчества.
Правда, методы эти очень различны, равной точки зрения, возникающие в связи с применением сознания, весьма разнообразны. Но несомненно, однако, что во всех случаях приложения ума к решению практических задач, деятельность его протекает в сходных формах: мысль сперва рисует себе образ, символ или знак, соответствующий воспринимаемому впечатлению. Затем ум проделывает самостоятельную работу разбора и критики этих символов и путем их сочетания создает проект действительности, измененной разумом. Проект этот прилагается к данному материалу, который соответственным образом перерабатывается, превращаясь в новую, улучшенную действительность.
Все эти фазисы умственной работы дают более или менее определенные или точные результаты, вследствие чего устанавливаются степени понимания действительности и власти над нею. При этом история культуры показывает, что наивысшая степень такого понимания и наибольшая власть связаны с способностью ума выражать свои проекты и выводы в наиболее точной форме, в форме чисел, или математической.
Этим обуславливается развитие, по мере совершенствования отдельных наук, применения в них по преимуществу измерительных и исчислительных методов. Все науки в настоящее время все более и более ставят себе задачу изучения множественности тех или других элементов. Изучение это всегда производится по методу вычисления, т.е. путем нахождения чисел, выражающих комбинации этих элементов. Таковы, например, задача и приемы так называемых точных наук: механика, астрономия, физика, электродинамика разлагают мир на различные элементы и находят законы, законы сочетания последних в виде математических формул. В этом же направлении развивается современная химия, становящаяся все более и более физической химией. Современное учение о квантах особенно ярко подчеркивает числовую основу химических законов. Но несомненно, что и так называемые естественные науки – биология, физиология, зоология, ботаника, минералогия находятся в тесной связи с физикой и химией и также должны будут пойти по пути применения математических приемов. Так, мы видим, что кристаллография стала уже всецело математической наукой; с другой стороны, в науке о живых организмах все больше сейчас начинает господствовать убеждение в сложности строения клетки, состоящей, по-видимому, из множества первичных элементов, каковые в конце концов сведутся к элементам химическим. Вместе с тем все большее значение в этих науках приобретают методы статистики, также имеющие в основе своей свойства числовых сочетаний. Но можно идти далее и предсказывать в связи с новыми биологофизи-ческими теориями, как, например, теория ионного возбуждения*141, постепенное распространение математических выводов на всю область физиологии, биологии и даже психологии. Тем самым будет заложено прочное основание для перенесения исчислительных методов и в сферу антропологических наук. Уже сейчас экспериментальная психология, социология и экономика пользуются статистическими методами. Но можно надеяться, что со временем будут найдены переходные ступени между статистикой или наукой, выражающей в числах множественность видимых предметов, и исчислением невидимых множеств, составляющих природу вещей. Тогда, быть может, удастся построить иерархическую систему всех известных нам множеств, входящих в состав окружающего мира, и мы будем в состоянии применять единые законы к явлениям, происходящим в самых различных областях жизни. Законы множеств станут, вообще, законами природы, и люди будут, одинаково в действиях, изменяющих материальные вещи, или преобразовывающих человека, или слагающих новые общественные отношения, исходить из учения о числах.
Во всяком случае секрет расширения нашей власти над природой, очевидно, заключается в том, чтобы распространить действие этого метода на все окружающее. Идея такой всеобщей математики предносилась уже многим древним учениям, ставившим в основу знания познание чисел. Начиная с самой глубокой древности мы находим следы такой науки у халдеев*142 и вавилонян, у египтян, у пифагорейцев*143. Через неоплатоников*144, неопифагорейцев*146, отчасти через гностиков*146 эти искания в области числовой символики передаются средневековой философии, развиваются в еврейской каббале*147, учениях арабов, в творениях Агриппы*148, Люллия*149, Пико де Мирандола*150 и т.п. Наконец, в новое время учение о числе воскресает в виде новой математики, основы которой закладываются Декартом*151, Лейбницем*152, Ньютоном, Кеплером*153, Лагранжем*154, Лапласом*155. В XIX в. математика получает невиданный расцвет, становясь в своих бесчисленных приложениях основой всей современной техники и реальной власти человека над природой. Смысл же ее остается все таким же, как в древнейшем учении о числах, – стремлением выразить все вещи посредством чисел и убеждением в том, что знание формулы процесса или вещи дает нам власть изменять и направлять этот процесс и тем самым творить эту вещь.
Такая точка зрения нашла себе выражение в позднейших попытках обобщения, а именно в математически-философской деятельности Лейбница и затем в XIX в. в стремлении Огюста Конта*156 найти в математике образец для всех наук.
Современная математика также идет по этому пути и учитывает указанное устремление наук. Соответственно в ней развивается сейчас теоретическая дисциплина, подготовляющая такую всеобъемлющую теорию множественности. Пока в этом направлении сделано многое в смысле разработки специального учения, не могущего еще претендовать на такое всеобщее значение, но в смысле теоретическом, являющемся, несомненно, математической основой будущей панматематики. Это учение о множествах, созданное впервые Георгом Кантором*157 и в настоящее время становящееся постепенно основою всей высшей математики. Правда, учение о множествах встретило на своем пути ряд парадоксов, разрешение которых путем обычных логических и математических методов, по-видимому, невозможно. Но тем не менее теория множеств продолжает развиваться и влияет не только на математику, но и на смежные области логики и философии. Последняя все более и более вынуждена применять математические методы, и этим создается почва для попыток создать новую mathesis universalis*158 в виде всеобщей философской алгебры. К этому направлены старания так называемых логистиков*159, пытающихся на таковой основе пересоздать логику.
Успехи в области теории сопровождаются такими же успехами в области прикладной математики. Математическая теория раскрывает числа в их сущностной природе и отношениях, прикладная математика находит числа существующих вещей в виде формул реальных отношений мира. Техника применяет это знание к материальным условиям и дает возможность человеку действительно преобразовывать природу. При этом следует отметить, что подобная структура воздействия на вещи, при помощи математики, не есть какой-нибудь исключительный вид действия, свойственный только тем случаям, в которых явным образом применяется математика. Те же приемы употребляются всяким вообще сознательным действием, ибо всегда роль ума в действии есть роль органа, рассчитывающего или вычисляющего, т.е. ищущего законы сочетания вещей и меняющего эти сочетания. Там, где нет явных чисел и явной математики, есть понятия и имена и операции производятся логическим мышлением над последними. Таким образом, можно признать, что ум всегда работает математически и это не только не является недостатком нашего мышления, будто бы не могущего вследствие этого схватить текучесть жизни, как утверждает иррационалист Бергсон*160, но, наоборот, указывает на точное соответствие сознания и действительности и на значение в обоих не столько момента текучести, сколько момента множественности.
К этому можно прибавить, что действие ума на реальный и материальный мир может быть уподоблено некоторым процессам, известным нам из химии, а именно процессам каталитическим. Сила разумного существа проявляется всегда не как действие физической силы, соразмерное явно затраченной последней энергии, и не как химическая реакция, соразмерная атомному весу действующих элементов, а как действие фермента, или энзима, совершающего ничтожным движением, а иногда просто своим присутствием колоссальные превращения. Из этого не следует, конечно, что в этих случаях не затрачивается сила, но, по-видимому, сила эта несколько иного порядка, чем совершаемые ею внешние изменения. В настоящее время доказано, что биохимические процессы производятся энзимами без участия клеток, что значительно расширяет сферу катализа, распространяя ее на всю природу, одинаково органическую и неорганическую. Вместе с тем начинает устанавливаться взгляд на катализатор как на трансформатор энергии, превращающий один вид энергии в другой и тем самым влияющий на изменение системы. Если предположить, что сознательное существо действует как катализатор, тем самым оно является как бы трансформатором энергии. Нервная энергия есть в таком случае не что иное как особое состояние мировой энергии, действующей в случаях проявления сознания каталитическим способом. При этом энергия эта сообщается окружающему через посредство символов и слов, числовых знаков и языка имен.
Таковы общие условия деятельности человеческого сознания и проективная роль человеческого ума в деле овладения природой. Очевидно, производительная деятельность и всякое строительство должны в высшей степени считаться с такой деятельностью сознания и всякая организация коллективных культурных усилий должна одинаково поощрять творчество проектов и символов и приложение их к материальным процессам.
Однако историческая практика показывает нам, что не всегда эти два вида культурной деятельности развивались равномерно и в соответствии друг с другом. С одной стороны, поскольку люди отдаются материальному творчеству в виде экономического строительства и производства, они часто бывают склонны недооценивать в этих процессах роль умственного труда и употребляемой им символики. С другой, наоборот, в результате древней традиции культура человечества носит издавна слишком теоретический и символический характер, пренебрегая реальным преобразованием мира в виде изменения физического мира и созидания материальных вещей. В первом случае все внимание обращается исключительно на организацию техники и материальных условий производства. Во втором преобразовательная деятельность включает только развитие идей и выработку художественных образов в ущерб действительному влиянию на всю природу.
Не трудно доказать односторонность первой точки зрения.
Если ставить вопрос о производительной работе во всей его широте, к чему, по-видимому, стремится сейчас в большинстве стран как человеческая мысль, так и производственная практика, становится ясным, что такая организация этой работы требует кроме организации труда физического также организации труда умственного.
Значение умственного труда тем больше должно учитываться, что наука в настоящее время раскрыла тесную связь психических и физических явлений и вследствие этого само деление на труд физический и умственный уже нельзя проводить в полной точности и строгости. Всякая психическая работа есть вместе с тем известное изменение физиологических состояний, и вместе с тем всякое движение неразрывно сопровождается соответственной мозговой работой. Это ярко сказывается, например, в обнаруженной в настоящее время тесной связи ручных движений и деятельности мозгового центра речи. В результате трудов выдающихся физиологов и экспериментальных психологов оказалось, что преимущественное развитИе одной стороны человеческого тела связано с наличием у нас в нормальном состоянии одного только центра речи. Но путем известных упражнений и притом упражнений в виде движений можно пробудить к действию и атрофированный центр в другом полушарии. Тем самым устанавливается полное соответствие слова и внешнего движения. Нет движения без смысла, и нет слов или имен без действия. Произнесение слова есть уже действие. Из этого следует, по физиологическим основаниям, что организация движений и организация мысли и ее выражения в виде речи неразрывно связаны.
Но необходимость организации умственного труда вытекает и из другого основания, уже не индивидуально-физиологического, а из требований коллективно-социологического характера всякой работы. Поскольку индивид не может ни на один миг быть отделен от исторического социального целого, в котором он живет, всякая индивидуальная работа, чтобы быть осмысленной, должна вместе с тем быть общим делом человеческой группы и в конечном итоге всех людей. Такая общность действий может получиться в результате объединения людей иррациональными, слепо влияющими на них мотивами, что чаще всего имело место в истории при массовых движениях. Но поскольку мы стремимся к рационализации и организации человеческой деятельности, мы не можем, конечно, довольствоваться таким естественным способом приведения этой деятельности в одно русло. На самом деле чаще, чем объединение, таким путем, наоборот, создается рознь, обнаруживается не исконное родство людей, а эгоистическая их неродственность – следствие подчинения слепым инстинктам. Люди при таком порядке их социальной связи остаются по большей части в состоянии пагубной распыленности. И ясно, что, при сохранении этого состояния, как бы хорошо ни был организован физический труд этих людей, построенное таким образом здание остается без крыши – различные виды труда не связаны общей разумной целью и смыслом. Таковой смысл может возникнуть только в том случае, если все эти отдельные усилия будут выполнять единый общий проект общечеловеческого дела. Установление же такого проекта есть не что иное, как организация умственного труда.
Проект сообщается другим людям посредством языка символов и имен, являющихся как бы кристаллизованным запасом прошлых, коллективных продуктов человеческой культуры. Обобществление этого запаса в виде использования его всеми людьми обеспечивает согласование их мыслей и усилий и создает из них органическое целое – социальное тело – «эгрегор» древних писателей.
Однако, как мы видели, существует опасность увлечения творчеством этих знаков и символов и пренебрежения, ради деятельности их создающей, действительностью – борьбою с материальной природой. Подобный уклон имеет в своем основании унаследованное от уходящей исторической эпохи неправильное понимание сущности культуры.
До сих пор во всех известных нам периодах человеческой истории культура в ничтожной своей доле создавалась сознательной волей человека, согласно проектам его разума, но в большей своей части вырастала естественным процессом, вне контроля разумного сознания. Такое стихийное возникновение и рост культуры иногда давали чахлое ее развитие, иногда, наоборот, буйное цветение. Но всегда в ней господствовали иррациональные элементы и человечество шло, не зная, куда идет, отдаваясь пассивной вере, фатализму, бездеятельному созерцанию, каковые состояния сопровождались в жизни кристаллизацией косного и неподвижного быта.
Такое сужение роли человеческого разума обусловило искажение представления о сущности культуры. Культура, согласно этому неправильному взгляду, есть совокупность отраслей человеческой деятельности, стоящих как бы несколько вне жизни и представляющих даже некоторую для нее роскошь. Культура в таком понимании ограничивается теоретическим знанием и творчеством искусства. Она творит не действительность, но одни только формулы, знаки, образы и подобия. Она рассматривается, следовательно, как некоторое усложнение жизни и украшение ее, придающее ей полноту, но без которых возможно в крайнем случае обойтись. «Сперва устроим жизнь, – слышатся голоса, – затем будем строить и культуру».
Между тем несомненно, что строительство жизни и есть не что иное, как созидание культуры. Жизнь, сознательно построяемая человеком, и есть культура. Культура есть совокупность результатов, достигаемых человеком в деле преобразования мира. Культура есть мир, измененный и изменяемый человеком согласно идеалам его разума.
Но в таком случае культура включает не только деятельность теоретическо-символическую, выражающуюся в науке и искусстве. Существенной и важнейшей частью культуры являются те виды деятельности, которые реально, а не только в мысли и в воображении изменяют окружающий нас мир. Это экономика, производство, земледелие, техника, медицина, евгеника*161, практическая биология, педагогика и т.п. И в самом деле, из обзора всех современных исканий и стремлений явствует, что содержание культуры раскрывается именно как совершаемое людьми при помощи этих способов действия реальное изменение действительности. Культура не только есть исключительно чистая наука и чистое искусство, но непременно состоит в приложении последних к производству, добывающей и обрабатывающей промышленности, труду и технике. Вследствие этого можно сказать, что вообще смысл и цель всякой культуры есть в конечном итоге задача реального улучшения и преобразования мира путем рационального управления природой.
И новая культура будущего есть не что иное, как выявление именно этого характера общечеловеческой культуры, раскрытие ее как такой мировой преобразовательной деятельности.
Из этого следует, что первая задача, предшествующая» всякому строительству и организации, есть расширение общего понимания культуры и включение в нее таких видов человеческой деятельности, которые до сих пор рассматривались как стоящие вне сферы ее творчества. Другими словами, должны исчезнуть существующее в настоящее время разобщение культуры и жизни и вытекающее отсюда отделение теоретическо-символической деятельности, творящей формулы знания и идеальные образцы, от деятельности, реально, путем действия, изменяющей окружающий нас мир.
Для этой цели необходимо, прежде всего, ясно понять, откуда могло возникнуть это губительное разобщение. Его корни, несомненно, лежат в древнем разделении мира, с одной стороны, на мир потусторонний, доступный одному только уму и воображению, с другой, на мир земной, материальный, где протекает человеческое действие.
Не будучи в силах, вследствие ограниченности своего кругозора и слабости своей власти над природой, совершать действительное всеобъемлющее преобразование окружающего, человек отмежевал себе особую область деятельности, где ему было сравнительно легче утвердить царство своего разума и своих моральных и эстетических идеалов. Это была область чистого знания и такая же область чистого искусства. Здесь, в особом мире, созданном умом и воображением, человек творил нужные ему мысли и образы, пассивно воспринимая внешнюю реальность и воздействуя на нее лишь в собственном внутреннем мире, путем обогащения своего интеллекта и развития своих эстетических способностей. В этой отгороженной области одерживались победы над противоразумной и злою природой, но недостаток этих успехов заключался в том, что они реально, в жизни, не приводили ни к каким изменениям действительности, кроме создания поколений особо утонченных людей, очень совершенных, но очень далеких от остальной массы, продолжавшей прозябать в тисках жизни бедной, бессмысленной и уродливой. Так развивалось пассивное созерцание и абстрактное философствование. К ним примкнули чистая наука и чистое искусство. Ученые занялись чистою теорией, забыли, что их деятельность имеет смысл, только поскольку она реально преобразовывает мир, и что они, соответственно, не являются самодовлеющей корпорацией, а лишь как бы комиссией, выделенной человечеством для определенной цели – создания проекта преобразования мира. Художники, со своей стороны, отдались символике образов и забыли, что последние имеют смысл только, поскольку они связаны с действительностью, и что назначение искусства – дать людям идеал лучшего мира и помочь реальному претворению настоящего в такое будущее. В итоге культура стала отделяться от жизни и замыкаться в узкие рамки такого чистого, далекого от действительности творчества.
Результаты разобщения символическо-теоретической и реальной культурной деятельности одинаково пагубны для обеих: действие без мысли бессмысленно, мысль без движения бездейственна, знание, поскольку оно ни к чему не прилагается, вырождается в отвлеченное умствование; наука, не имеющая практической цели, в конце концов превращается в изложение не нужных ни для чего методов; искусство, творящее только одни мертвые подобия, превращается в вредную забаву. С другой стороны, правотворчество и экономика, как деятельности, меняющие материальный мир, медицина и евгеника, меняющие природу живых существ, педагогика, меняющая их психическую природу, также лишаются определенной цели и начинают служить удовлетворению частных и индивидуальных интересов, вместо того чтобы выполнять задачу преобразования мира.
Следствием этого является распыление человечества на множество враждующих центров. Культура перестает вырабатываться как общее дело человеческих усилий, и последние развиваются, каждое в своей области, как самодовлеющее устремление. Отсюда рождается губительный партикуляризм*162, который мы находим в основе культурного либерализма, провозглашенного в эпоху Возрождения и развившегося в современный культурный хаос. В этом состоянии общее сознательное действие людей, вместо того чтобы пролагать себе русло в истории единым мощным потоком, растекается на тысячи ручейков, заканчивающихся по большей части стоячими лужами зловонной воды. Каждый человек живет лишь для своих эгоистических целей. Возникает множество тупиков – отдельных жизней, отгороженных от остальных. В каждом таком тупике воздвигается идол в виде того или другого личного предрассудка или страсти. И во имя этих идолов разгорается взаимная кровавая война, раздирающая рознью человечество. Правда, люди вместе с тем объединены иррациональными факторами, но объединение это имеет обычно в своей основе косность и пассивность и рассыпается при столкновении с сознанием, даже в его первичной эгоистической и индивидуальной форме.
Описанные явления обуславливают кризис, переживаемый сейчас европейской культурой. Ясно, что она не может оставаться в состоянии современной индивидуальной распыленности, и ясно также, что пути к прошлым попыткам единения на основах угашения сознания – ей заказаны вследствие слишком большого современного ее развития. Остается только один путь – создать культуру, в которой сознание было бы не удалено от жизни, но проективно руководило бы последней, при этом руководило бы не в смысле отъединения людей друг от друга, а, наоборот, в смысле возможно полного их объединения на основах общего дела.
Необходимость поставить предел указанным явлениям распада и разброда требует от разума объединяющего и оформляющего воздействия на все виды человеческой деятельности. Мы видели, что в каждом отдельном действии роль сознания заключается в том, чтобы выяснить проект этого действия. Поскольку же все действия обобщаются в виде объединенных усилий, направленных к овладению природой, коллективное сознание должно найти общий проект этого действия и создать руководящий план всеобщего дела.
Тем самым задача организации всех видов человеческой деятельности или задача организации культуры заключается в том, чтобы одновременно организовать символику жизни и ее практику.
Поскольку культура вырастает стихийно, зародыш подобной организации создается, естественно, в очень элементарной и несовершенной форме в виде равнодействующей природных сил, способствующих или препятствующих преобразовательной или культурной деятельности человека. Когда баланс этого действия устанавливается в пользу творчества, получается та или иная историческая культура, когда, наоборот, берут верх силы разброда и бессмысленной причинности, мир погружается в мрак первобытной эпохи, где человек остается в рабстве у слепой стихии. Но всегда, даже в случаях творчества культуры, такой естественный способ ее роста бывает сопряжен с громадной расточительностью усилий. Очевидная задача индивидуального и коллективного разума заключается в том, чтобы внести в этот естественный процесс осмысливающее, организующее начало человеческой сознательной воли. Другими словами, культура должна быть организована одинаково в своих символических проявлениях, т.е. в науке, искусстве, и в приложении их к жизни, т.е. в практических видах человеческой деятельности, как-то: экономике, производстве, медицине, технике, педагогике и т.п.
Такая организация требует от коллективного сознания выработки всеобъемлющего синтеза52 культурных достижений во всех областях. В этом синтезе должны быть объединены все выводы отдельных наук, выражающиеся в соответствующих исследованиях, Таким образом, результаты, достигнутые специальными ветвями знания, будут собраны в единое стройное целое. Такая же работа должна быть произведена в отношении различных проявлений искусства, каковые должны также быть объединены в виде синтеза лучших его достижений. Затем должен быть сделан уже совокупный синтез последних результатов науки в виде высших ее обобщений и самых ценных художественных откровений. Вместе взятые, эти продукты науки и искусства составят культурный идеал эпохи. При этом организация их все время должна иметь в виду не теоретическую или эстетическую цель, но цель действенную – реальное преобразование мира посредством осуществления в нем этого идеала. Последний должен носить характер проекта соединенного действия всех людей, направляющего это действие к высшим свершениям, доступным человеку. Проект этот должен по самой своей конструкции носить сложный характер, ибо в него войдут в виде составных его частей все частные проекты преобразования действительности, вырабатываемые отдельными науками и видами искусства. Каждое из них, этих наук и искусств, будет иметь свою специальную цель, и каждое научное открытие, и каждое художественное произведение будет иметь такую особую цель. Но все эти частные цели будут согласованы в виде единой общей цели всей включающей их культуры. Так бывает на заре всякой культурной эпохи, когда ее различные проявления выходят как бы из общего, рождающего ее слова. Так должно быть и в новую открывающуюся перед нами эпоху, в которой должен измениться общий характер культуры путем превращения ее во всеобщее преобразовательное дело всех живых существ. От этого нового общего корня должны пойти новые побеги и отпрыски в виде новой всеобъемлющей науки, знающей, для чего она творит и чему служит, и нового искусства, переставшего быть безответственной игрой и ставшего служением и священнодействием.
В связи с такой основной задачей организации культуры – выработки общего ее идеала и проекта – стоит последующая задача – приложение этого проекта к жизни, реальное его осуществление. Для этого культура через аппарат соответствующих учреждений должна внедряться в жизнь, завоевать все отрасли человеческой деятельности.
Общий проект должен специальными своими сторонами охватывать специальные ветви практического действия. Так, для органов, осуществляющих строительство общественных форм и создающих право, общий проект должен давать картину того общества, которое эти органы призваны создать. Для органов, сохраняющих или улучшающих живые существа путем евгеники, необходим проект или образ совершенного человека, являющегося целью этих видов деятельности. Наконец, для органов, преобразовывающих действительность путем созидания материальных ценностей посредством экономики, производства и труда, общий проект должен давать образцы улучшенных условий жизни и физической обстановки, отвечающей разумному идеалу. Взятые вместе, все эти виды деятельности осуществляют преобразование мира как целого, сначала планетарного, а затем космического.
Поскольку же, как мы видели выше, наиболее совершенный вид мысли есть мысль, выражаемая в числах, проект этот со всеми своими подразделениями и частями должен представлять собою систему формул или чисел, дающих каждое ключ к тому или другому процессу, совершаемому действием. Так же, как аналитическая геометрия дает нам формулы кривых, механика – формулы движений, прикладные науки, как, например, оптика или гидравлика, – формулы тех или иных конкретных явлений, наука вообще в своих теоретической и прикладной частях должна давать формулу всякого вообще возможного действия. Тем самым проекты науки превращаются во всеобщую производительную математику, включающую все точные познания человека о мире с точки зрения преобразовательного воздействия на последний. Это то же, что mathesis universalis Лейбница, но в виде системы не символических только, но также действенных чисел. Вместе с тем числа могут быть заменены такими же действенными знаками или именами, знание которых дает власть над природой.
Все эти задачи носят ясно выраженный характер преобразования природы в виде определенного изменения и улучшения того, что создавалось до сих пор стихийной деятельностью ее сил. Некоторые изменения касаются живых существ и самого человека; другие имеют в виду превращение материи; третьи создают новые виды средств сообщения и движения.
Первая группа преобразования приобретает сейчас особую важность. Мы вышли из тех периодов человеческой истории, когда можно было думать только о психическом изменении человека, о развитии в нем тех или иных идей или нравственных склонностей. Рядом с подобной необходимой задачей внутреннего совершенствования человека перед нами ставится проблема более целостного его преобразования и обновления, изменения его как естественного типа. Человек должен стать не только homo sapiens, но настоящим властителем природы, homo creator’ом*163. Это ставит вопрос о биологическом совершенствовании человека и о физическом превращении его в более могущественное и устойчивое в смысле жизненности существо. Это вызывает потребность в особом искусстве, связанном с усовершенствованной антропологией, – в антропотехнике или даже антропоургии*164. Уже сейчас мы имеем ряд прикладных наук, которые разрабатывают практический подход к этой проблеме. Прежде всего, сюда относятся медицина и гигиена, уже совершившие переворот в условиях нашего существования путем устранения некоторых болезней и значительного обезвреживания других. Медицина идет дальше: в лице хирургии она видоизменяет самое человеческое тело, устраняет зараженные органы, заменяет их другими, искусственным образом дополняет изъяны организма. Вершиной подобных достижений является открытие возможности омоложения, представляющего собой весьма реальный шаг по пути научной борьбы за долговечность. Но рядом с медициной стоит экспериментальная биология, которая идет еще дальше. В различных ее опытах, носящих, правда, пока еще частичный характер, намечаются пути победы над смертью: путем оживления органов, воскрешения после анабиоза и т.д.53 Конечная же цель биологических исканий есть творчество живой протоплазмы, к чему уже как будто приближаются опыты над коллоидами. В туманной дали за этими успехами рисуется лабораторное творчество настоящей жизни, завершение старых опытов Парацельса в виде живых существ. Это будет настоящая и полная победа над смертью, и естественно, что тогда сама антропотехника будет иметь рядом с собою анастатику, искусство воскрешать утраченную жизнь. Пока же биология и химия не дошли до осуществления этих задач, другая наука ставит уже сейчас практический вопрос совершенствования живых существ и человека путем сознательной культуры наследственных качеств. Евгеника стремится создать новую человеческую породу, вырастить путем организации искусственного подбора тип homo creator'a. Правда, наука эта находится пока еще в начальной стадии, но перспективы ее громадны и затрагивают одинаково улучшение индивида, социальных условий, половых и семейных отношений, наконец, реформу морали и жизни.
Но не менее важна, чем задача изменения природы живых существ, задача влияния сознательной человеческой воли на превращения материи.
Новейшие открытия в области физической химии ставят перед человечеством не только ряд теоретических вопросов, но выдвигают также две практические задачи, в которых посредством применения расчета возможны достижения колоссальной важности в смысле значения их для изменения природы. Первая есть не что иное, как возрождение в научной форме старой мечты средневековья – о превращении веществ. Как известно, алхимики думали, что такое превращение возможно, и даже искали основное вещество, называемое ими философским камнем, из которого произошли все другие. Они предполагали, что пребывание какого-нибудь вещества в известных условиях, например в земле, в течение определенных сроков способно превратить его в другое. Идея эта была отвергнута, когда образовалось учение современной научной химии и выяснилось, что химические элементы не подлежат разложению при помощи обычных химических способов. Однако уже в 1815 г. В. Прут (W. Prout) предложил гипотезу, согласно которой все элементы являются полимерами единственного первичного элемента – водорода*169. Идея эта сейчас снова выдвинута в результате опытов Томсона*170, Бора*171 и Резерфорда*172 и блестяще подтвердилась в ряде экспериментальных работ. В настоящее время является неопровержимой научной истиной, что атомные ядра всех элементов построены из ядер водорода и гелия и из электронов. Вместе с тем был обнаружен факт несомненной эволюции химических элементов, связанных с их разложением, вызванным радиоактивными процессами. Так, из урана получается ионий, из иония – радий, из радия -- полоний, из полония, наконец, – свинец.
Из этого следует, что вопрос о превращении веществ теоретически решен в положительном смысле и человеческой деятельности открывается неограниченная область в деле изменений материи.
Не менее важным результатом новейших химических открытий является обнаружение внутри атомов колоссальных запасов энергии. Радиус ядра в 2000 раз меньше радиуса электрона, тогда как масса ядра в 2000 раз больше массы электрона. Из этого следует, что положительно заряженная инертная часть атома (и, следовательно, его весомая часть) сосредоточена в чрезвычайно малом объеме. Ставится вопрос: возможно ли будет овладеть этой интра-атомной энергией и освобождать ее путем разложения материи в таких количествах, которые могли бы дать полезную работу? Положительное решение этой задачи, несомненно, произведет невиданный переворот в технике и производстве и даст людям власть над изменениями мира в масштабе, совершенно неизмеримом с современными нашими представлениями.
Рядом с указанными областями науки можно наметить еще одну, в которой научный математический расчет, приложенный к производительной деятельности, открывает небывалые перспективы для человеческого действия. Это область овладения пространством путем создания новых видов средств сообщения и способов движения. Здесь сперва надо указать на в значительной степени уже решенную проблему завоевания воздуха, в которой несколько десятков лет дали успехи, превышающие все самые смелые ожидания и надежды прежних веков. Сейчас воздухоплавание нуждается лишь в некоторых усовершенствованиях, главным образом в смысле увеличения грузоподъемности летательных аппаратов. Но рядом с этим возникает несравненно более величественная проблема полетов в пустом пространстве и, как конечная цель ее, задача междупланетных сообщений. Здесь открываются головокружительные перспективы, которые с каждым годом все более и более уточняются, по крайней мере в предварительных теоретических предположениях и расчетах. Сейчас научная мысль склоняется к тому, чтобы признать в ракете, движимой внутренними взрывами, прибор, могущий при некотором усовершенствовании служить для цели таких передвижений. В связи с этим, подобно тому как в XV и XVI вв. люди были охвачены надеждой открыть неизведанные материки Земли, мы можем мечтать о скором открытии планет, посещении планет и о перенесении нашей деятельности в космические просторы. И кто знает, не встанет ли за этой проблемой вопрос об управлении движением планет и не будет ли в самом деле осуществлена идея русского мыслителя Н.Ф. Федорова, провидевшего, что люди когда-нибудь станут хозяевами Земли до такой степени, что последняя превратится в послушный им корабль и они будут направлять движение ее в пространстве?..
Во всяком случае, пока эти отдаленные перспективы остаются достоянием мечты и фантастических гаданий, в смежной области – по овладению пространством путем действия на расстоянии – достигнуты большие успехи. Здесь в особенности продвинулась техника радиотелеграфа. Сейчас на очереди стоит вопрос об изобретении средств для сосредоточения в одном направлении энергии, рассеиваемой при обычном способе радиотелеграфирования во всем пространстве. Когда будет достигнута возможность передачи энергии без ее ослабления, возможно будет не только посылать сообщения на громадные расстояния, быть может на другие планеты или даже звезды, но будет также приобретена способность при посредстве электрических волн переносить на расстояние любое действие разрушительного или созидательного характера.
Можно было бы перечислить еще целый рад подобных перспектив науки и техники, но сказанного достаточно, чтобы дать представление о мощи проективного человеческого действия, руководимого научным и математическим расчетом.
Следует указать для завершения картины на еще одну из задач науки, представляющую как бы синтез всех других видов и способов овладения природой. Это задача овладения всеми вообще процессами движения и изменения путем завоевания их общего корня – времени.
Преодоление времени не является только теоретическим допущением, вытекающим из современных физических и математических теорий. Победа над временем и овладение им возможны на практике и в результате сознательной деятельности людей. Можно пойти далее и утверждать, что уже сейчас в ряде областей мы имеем частичную реальную власть над временем и постоянно ее осуществляем, несмотря на то что мы не сознаем такого значения наших действий. В самом деле, если вдуматься, мы поймем, что мы имеем такой пример овладения временем в каждом, свободно и сознательно произведенном человеческом опыте. Каждый день, в ограниченных областях, мы изменяем время и осуществляем его обращение. Это происходит, например, в каждом научном опыте. Когда я из двух газов делаю воду и затем обратно ее разлагаю и затем снова создаю, повторяя этот процесс по желанию, я составляю или разлагаю каждый раз комбинацию элементов данного множества. Другими словами, я повторяю последовательность явления или уничтожаю и воскрешаю воду. Спрашивается, однако: можно ли говорить здесь о воскрешении воды? Это уже не совсем та, но другая вода, ибо кругом все изменилось и сама вода незаметно изменилась. Но это не уменьшает значения процесса воскрешения. Конечно, с точки зрения движения Земли или даже моей жизни тут нет полного воскрешения, ибо новая капля воды имеет в каждый данный миг новые связи с новым окружающим. Можно поэтому, исходя из Гераклита, считать, что второй раз полученная – это уже не та же самая вода. Но, если отказаться от столь широкой точки зрения и искусственно ограничить опыт определенною областью отношений, – умышленно отвлекаясь от всех связей с окружающим, – в этой ограниченной области получается полное овладение временем и воскрешение определенных событий. Ограничение это проявляется для нас в данном случае в том, что вода для нас важна только в смысле соответствия формуле Н2О, как известная комбинация данных химических элементов. Для этого вовсе не требуется, чтобы эта была бы та же вода, то есть вода, состоящая из тех же самых атомов, что и старая. Когда я говорю «вода воскресает», я имею в виду только получение известного количества Н2О, хотя бы из совершенно иных атомов. Понятие индивидуальности ограничивается исключительно соответствием формуле или числу и ничего другого, кроме такого числа или показателя свеобразной комбинации, ни в каком индивиде нельзя найти.
Таким образом, всякое сознательно и целесообразно произведенное изменение природы, созидающее или воссоздающее реальность, согласно данной формуле, есть не что иное, как овладение временем.
В общем, такие опыты показывают нам частичную победу над временем, овладение им в ограниченной области и совершение частичного воскрешения. Такую же победу над временем, но в более сложном комплексе отношений, представляют опыты омоложения. Но в таком случае можно считать, что преодоление времени или его обращение допустимо, что его возможность доказана к зависят от чашей сознательной воли, поскольку не препятствуют последней окружающие условия. Ведь, чтобы доказать, что время вообще обратимо, я вовсе не должен доказывать, что все время обратимо. Достаточно доказать возможность повторения хотя бы небольшой его части, чтобы сказать, что принципиальная возможность воскрешения имеется. Раз же такое распоряжение временем возможно в ограниченной сфере, оно и по существу возможно, и вопрос сводится к расширению пределов этой сферы, т.е. к масштабу действия. Если представить себе опыт, в котором мы, вместо двух определенных частей газа, орудуем бо́льшим числом элементов, для них мы можем также овладеть временем. Представим себе такое действие в еще большем, космическом масштабе, и мы получим картину овладения всем временем. Это приводит к колоссальным последствиям. Обнаруживается, что сознательное проективное действие способно не только видоизменять ту или другую вещь в той или другой области, но что вообще изменение мира доступно такому действию. Мы можем побеждать всякое время и мы стоим на пути к такому завоеванию в каждом сознательно производимом опыте.
До сих пор мы рассматривали сравнительно отдаленные перспективы человеческого проективно-производительного действия. Если от этих сложных и широковещательных предположений перейти к ближайшим задачам производительной деятельности, имеющим и сейчас уже практическое значение, можно составить внушительный перечень таких неотложных задач.
В первую очередь здесь ставится вопрос о разумном использовании запасов, находящихся в недрах земли или на ее поверхности (минералов, угля, нефти, металлов, драгоценных камней, леса, растительности и животных). Запасы эти, хищнически расточаемые человеком, быстро истощаются. Деятельность человека в этом смысле уже изменила природу земли, причем изменила ее в сторону обеднения и порчи. Если не будет поставлен предел этому разрушительному действию, с природой постепенно произойдет то, что случилось с многими лесистыми местностями, превращаемыми в пустыни, или с уничтоженными видами животных. Закон Мальтуса*173 в самом деле может стать для человечества грозною реальностью. Ввиду этого необходимо, с одной стороны, введение методов хозяйственного использования там, где господствует сейчас хищническое расточение этих богатств. Это имеется уже сейчас в фактах искусственного удобрения земли, лесонасаждения, выращивания ценных пород растений и животных. Но методы эти должны получить всеобщее и организованное распространение. Рядом с этим должны быть усилены меры к разысканию новых источников полезной энергии, могущих восполнить недостаток современных запасов до того времени, как овладение интраатомной энергией не произведет вообще радикальный переворот во всей технике производства. Такими новыми источниками энергии, доступными людям в известной мере уже сейчас, являются сила водяных движейий рек и водопадов, так называемый белый уголь, а также солнечная энергия, для овладения которой уже строятся приборы. Можно указать также на другую задачу колоссальной важности для будущего земледелия, на задачу регуляции погоды. Несомненно, что метеорология должна стать точной наукой, но независимо от этого люди должны научиться управлять погодой и создавать необходимые для их жизни климатические условия. У русского мыслителя Н. Федорова мы находим в этом отношении ряд ценных мыслей, связанных с опытами замечательного русского общественного деятеля начала XIX в. Каразина*174. И в настоящее время попытки вызова или устранения облаков посредством стрельбы указывают на начало такой регуляции, но истинное развитие последней связано, по-видимому, не с подобными, сравнительно примитивными опытами, а с новейшими успехами теории и техники электрических явлений, влияющих на атмосферу.
Наконец, перед культурой ставится общая задача направления и организации производства и труда во всех отраслях экономической жизни, в особенности же в области обрабатывающей промышленности. Вместо бессмысленного расточения сил и средств в процессе создания ненужных вещей, предметов роскоши и орудий взаимоистреблений, являющихся сейчас продуктами фабричного производства, последнее должно иметь задачей снабжение человечества предметами, в самом деле необходимыми для улучшения жизни. Цели производств должны не диктоваться ему стихийными и безрассудными веяниями рынка, но ставиться перед организованной промышленностью в результате особой проективной деятельности высших культурно-экономических инстанций.
Описанная организация культуры будет надежным средством против отмеченных выше явлений распыления людей и разброда их усилий. Единство человечества, к которому стремятся лучшие политические и социальные проекты, будет обеспечено, прежде всего, единством производительной и преобразовательной цели, охватывающей все области человеческой мысли и деятельности. Этим будут подготовлены условия для действительного нарождения и развития новой культуры, каковая культура должна сменить современную западноевропейскую, постепенно меркнущую на наших глазах. Если старая культура имела в своей основе возведенное в догму биологическое соперничество, эгоистическую борьбу индивида за физическое самосохранение, часто вопреки интересам других людей и общества, новая культура должна исходить из осознания более глубокого начала, как двигателя жизни – симбиоза или сотрудничества живых существ54. Необходимость такого объединения усилий вытекает уже из факта первоначальной родственности людей, обнаруживающейся в общем их происхождении, как органического типа. Но родство это, данное природой, должно во вторичной своей сознательной стадии стать трудовым и действенным и превратить мир в одну великую, коллективно работающую семью.
Создаваемая таким образом новая культура, направляемая единым усилием человечества, впервые действительно осуществляющего общее дело всех живых существ, дело жизни против смерти, получит в результате такого объединения стремлений и действий тот широкий человеческий базис, который отсутствовал в прежних символических и аристократических культурах. Впервые человечество полностью будет вовлечено в дело творчества культуры и все люди примут участие в этом творчестве. Научные опыты будут производиться не кое-кем и кое-где, в результате индивидуальных попыток отдельных ученых или их корпораций, а всюду и всеми, везде и всегда, путем массового действия широких слоев человечества так, как производятся сейчас наиболее значительные историческо-социологические опыты, создающие человеческое общество. И культура, вырастающая на таком социальном фундаменте, даст расцвет во много раз больший и более богатый, чем чахлое цветение тепличных ростков прежних культур, умиравших в суровом ветру исторических и социальных схваток, последствий узости этих культур и неудовлетворенности их для всего человечества.
Вместе с тем рядом с таким социальным базисом новая культура получит всеобъемлющий политический базис. Она будет не только национальной культурой отдельных народов, но также культурой всемирной, общим делом человечества, подготовляющим будущее Всемирное Общество, построенное на началах этой культуры. Организация культуры выдвигает идею объединения человечества уже не в виде прежних неопределенных идеалов всеобщего мира, проповедуемых пацифистами, а в виде требования совместного трудового общения всех людей ради достижения определенной цели, каковая может быть достигнута общими усилиями. Быть может, тогда в связи с постановкой этой задачи можно вновь выдвинуть лозунг разоружения народов, но в новом виде, не в смысле отказа вовсе от оружия и всеобщей повинности, а в смысле нового вооружения, но обращенного уже не против людей другой национальности, а против слепых сил природы, которая к тому времени останется в качестве единственного врага человеческого разума. Тогда, по разоружении Европы и Америки в их современном обличье, в новых Соединенных Штатах Мира пушки, стреляющие на много сотен верст, будут направлены против облаков с целью рассеяния градовых скоплений или вызова благодетельных дождей. Химические изобретения будут не убивать людей, а возрождать и воскрешать их. И всеобщая воинская повинность, в Версальской Европе, разделенной коридорами, оккупациями и национальной враждой, служащая оружием международного насилия и угнетения, превратится в организацию великой всемирной трудовой армии, мужество и искусство которой будут обращены против смерти, времени, бедности и болезни. Объектом ее будет завоевание не областей и царств, а всего мира с целью совершенного его преобразования.
Таковы окончательные цели, которые уже сейчас должно поставить себе человечество. Преобразование космоса и актуальная космократия и пантократия*178, обеспечивающая для человека возможность жить во всем мире, во всех средах, оживотворяя и оживляя всю природу и превращая ее из современного стихийно-хаотического неразумного мира всяческих противоборств в мир как совершенное целое, пронизанное разумом и вполне подчиненное ему, – такова основная задача для всего человечества, освобожденного от угнетающих его внутренних противоборств.
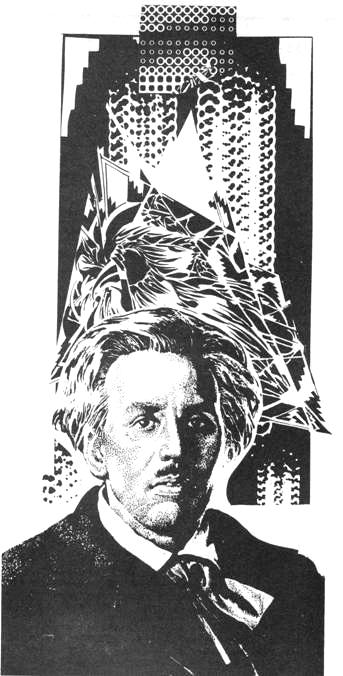 Имя А.К. Горского мыслителя и поэта, в истории русской философии незаслуженно оттеснилось как бы на второй план: заслонено оно мощными фигурами его современников и собратьев по любомудрию – П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, Н.О. Лосского и других. Способствовали тому и объективные причины. Большинство его работ или вовсе не было опубликовано, или увидело свет ничтожным тиражом в провинциальном русско-китайское городке Харбине в конце 20-х гг. Между тем и личность, и идеи Горского настолько глубоки и оригинальны, что заслуживают постановки в тот ряд светочей национального духа, которым по праву гордится каждый народ.
Имя А.К. Горского мыслителя и поэта, в истории русской философии незаслуженно оттеснилось как бы на второй план: заслонено оно мощными фигурами его современников и собратьев по любомудрию – П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, Н.О. Лосского и других. Способствовали тому и объективные причины. Большинство его работ или вовсе не было опубликовано, или увидело свет ничтожным тиражом в провинциальном русско-китайское городке Харбине в конце 20-х гг. Между тем и личность, и идеи Горского настолько глубоки и оригинальны, что заслуживают постановки в тот ряд светочей национального духа, которым по праву гордится каждый народ.
Он родился в семье священника. Отец, по свидетельству сына, был «человеком мощного творческого духа и прекрасной, нежной души». Многие из его качеств унаследовал Александр Константинович. Но путь сына был иным, хотя вначале и походил на путь большинства детей из духовного звания. Учеба в духовном училище, в Черниговской семинарии, а затем в Духовной академии Троице-Сергиевой лавры, где, как выразился Горский в одной из записных книжек, которые вел на протяжении всей юности, «лоно природы, горнило культуры и сердце религии – в одной точке». А внутренне в нем совершалась колоссальная работа духа и души. Он много читает: из светских авторов особенно Ф. Достоевского и Вл. Соловьева; снова и снова постигает «бездонную глубину» Священного писания. Переживает «уход» Толстого как «рубеж нового качества», посещает религиозно-философское общество. Интересуется символизмом, пишет стихи, глубоко воспринимает идеи психоанализа. И наконец, знакомится с учением Н.Ф. Федорова, которое постепенно входит в его сознание, определяет судьбу на годы, десятилетия, на всю жизнь.
По окончании академии ему – одному из лучших, талантливых, образованных выпускников – ректор предложил сан епископа, и не где-нибудь, а в столице, в Петербурге. Но Горский избирает особый путь, в чем-то сходный с путем Алеши Карамазова: путь подвижника в миру. По благословению монаха-схимника он женится и идет в мир. Брак его был обручничеством, ибо и самое существо брака он понимал особо, следуя тут «Смыслу любви» Вл. Соловьева. Слова Христа «да будут двое одна плоть» он воспринял как завет преодоления полового раскола, восстановления целостного состава человека. Путь к «новому небу» и «новой земле» видится ему в творческой работе над преображением плоти, над обретением «нового тела», духовного, всемогущего, не подверженного распаду и тлению. Брачный союз становится, по мысли Горского, именно приуготовлением к метаморфозе пола, раскрытием в другом «образа Божия», восполнением друг друга до «целостного человека». «Оба его члена, – пишет Александр Константинович, – должны являться друг для друга иконами, т.е. путями к восхождению к Первообразу, а не тормозами на этих путях». Горский творчески, нравственно-активно развивает идеи Фрейда об эросе как «влечении к жизни», противостоящем разрушению и небытию. Центральной темой его писаний становится идея регулятивной, преобразовательной эротики. Ей мыслитель посвятит работу «Огромный очерк» (1924) и ряд писем последних лет жизни.
Горский исходит из того, что в глубинах эроса таится, пусть скрыто и неосознанно, стремление к полноте и совершенству, жажда «космического расширения существа», протест против времени и смерти (вспомним здесь Вл. Соловьева). И в этом смысле эротическое возбуждение неожиданным образом оказывается, по Горскому, сродни возбуждению творческому. Ибо последним в сокровенной его глубине движет мечта о новой, совершенной природе, что, по выражению М.Ю. Лермонтова, будет полнее и прекраснее той, к которой мы прикованы. «Искусство, – утверждает мыслитель, – всегда греза о новом теле» – в этом смысл и таинственного явления музы, и того «лирического волнения», что отлично от «житейского» своей целенаправленностью, конструктивностью, созидательной силой.
Но в человеке эрос и творчество разведены. Первый не нуждается в «высших восприятиях», будто намеренно «выключает» сознание, как бы отсекает голову. Второе же базируется именно на этих «высших восприятиях». И в этом – одно из фундаментальных противоречий цивилизации и культуры, о чем предупреждал еще Фрейд, говоря, что их рост и развитие совершаются по мере утончения «высших восприятий», а значит, ведут к заграждениям на пути половых влечений, к частичной, а возможно, когда-нибудь и полной их блокировке. Налицо – угроза существованию человечества просто как биологического вида (подобный исход предвидел и Боратынский: см. его стихотворение «Последняя смерть»). С другой же стороны развивается неудовлетворенность искусством как таковым, ибо ему, на какие бы высоты оно ни поднималось, никогда не перешагнуть рокового барьера, отделяющего мертвые подобия от творчества действительной жизни.
Выход из этого противоречия Горский видит в необходимости управления эротической энергией, просветления ее светом сознания. И здесь мыслитель в большой мере опирается на опыт христианских подвижников, смело расширяя его границы. Он считает, что та регуляция психики, тот труд внимания, трезвения, душевной и духовной концентрации (которая, кстати, частично захватывает-таки тело – по преимуществу Дыхательные центры: вспомним регуляцию дыхания в молитвенной практике монахов-исихастов), что даны в опыте «умного делания», должны не отсекать эротические центры, а напротив – озарить их светом, стяжаемым в молитве, направить концентрируемую там энергию в должное русло: на преображение тела, на восстановление и истинное творчество жизни.
Уйдя в мир, А.К. Горский направляется в Одессу и поступает преподавателем в духовную семинарию и гимназию. Впрочем, до этого он год занимается в Московском университете, а в начале 1913 г. печатается в журнале «Новое вино», издаваемом Ионой Пантелеймоновичем Брихничевым (1879–1968), бывшим священником, лишенным сана за политические убеждения, философом и поэтом, и Верой Никандровной Миронович-Кузнецовой (1880-е–1931), энтузиасткой идей Федорова. Вместе с ними в 1913 г. составляет сборник «Вселенское дело», посвященный памяти Н.Ф. Федорова. А в 1918 г. знакомится с Н.А. Сетницким. Их свяжут 20 лет общения и дружбы, совместного творчества, пропаганды и развития федоровских идей. Уже будучи в Москве, в первой половине 20-х гг., они печатают в еженедельнике «Октябрь мысли» статьи о научной организации труда, пишут работу «Смертобожничество». В ней осуждают они всякую пассивность и раболепство в отношении к смерти, всяческое ее обожествление, провозглашают принцип активного христианства, которое есть «религия жизни», призванная воспитать человека «орудием воли Божией», соработником Бога в деле спасения, обо́жения мира, в борьбе с главным злом – смертью.
Общение с Сетницким не прерывается и после того, как последний в 1925 г. уехал на работу в Харбин. Друзья обмениваются письмами. Горский посылает туда для опубликования несколько своих работ: «Рай на земле. К идеологии творчества Ф.М. Достоевского и Н.Ф. Федорова», «Перед лицем смерти. Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров». А также серию очерков под общим названием «Н.Ф. Федоров и современность» (печатались под псевдонимом А. Остромиров). Один из очерков – «Организация мировоздействия» (1928) – мы и предлагаем читателю. Здесь Горский стремится в полном объеме раскрыть федоровское понятие «регуляции» и из разных областей современного ему знания, техники, искусства собрать те идеи, эксперименты и начинания, которые так или иначе лежат в этом русле. Причем не просто собрать, а как бы высветлить их лучом высшего воскресительного идеала.
Весьма часто «регуляция природы» – в философии, в науке и сплошь и рядом на практике – понималась и, увы, понимается и до сего дня лишь как внешнее, механическое, орудийное воздействие на природу (путем создания совершенных механизмов и машин). Вспомним хотя бы Н.А. Умова. Горский вслед за Федоровым утверждает, что одной голой техникой задач регуляции никак не решить. Необходима параллельная перестройка человеческого организма, регуляция психики, т.е. тот «органический» прогресс, который в совершеннолетнем человечестве должен заменить нынешний технический. Мировоздействие, считает Горский, лишь тогда станет устойчивым и прочным, когда мощь, свойственная машине-, станет внутренней мощью человеческого существа.
Эпоха первой половины 20-х гг. была захвачена стремлением к научной организации труда. Был создан Центральный институт труда, издававший собственный журнал. «Федоровцы» – Сетницкий, Горский, Муравьев – организацию труда понимали по-своему. Она виделась им как совокупное, сознательное участие всех в познании мира и управлении им, в «общем деле», в «организации мировоздействия» и, наконец, в воскрешении. Об этом книга Муравьева «Овладение временем как основная задача организации труда» (1924). Об этом пишет и Горский в предлагаемом очерке. Правильная научная организация труда, по его мнению, требует организации самой науки, нуждается в «новом организационном принципе» – «художественном», поскольку, как уже было сказано, искусство стремится «к воспроизведению органической жизни» (вспомним хотя бы миф о Пигмалионе), но уже «иными путями, нежели путь бессознательной животности», утверждает силу и власть творящего над всею природою. Направлять же объединенные усилия науки и искусства может только религиозный идеал восстановления «всех и вся». Анализируя саму природу научного, творческого, религиозного акта, Горский утверждает необходимость синтеза науки, искусства и религии, их союза и соработничества в общем воскресительном деле.
Очерк «Организация мировоздействия» вышел в Харбине в 1928 г., а годом спустя А. Горский был арестован. 8 лет провел он на Севере. Вернулся только в 1937 г., отбывал ссылку в Калуге, а в 1943 г. был вторично репрессирован. Умер, по официальному сообщению, в тульской тюремной больнице.
О.Н. Сетницкая, дочь Н.А. Сетницкого, так писала о Горском: «Горский всегда воспринимал жизнь как состоящую из непрерывной борьбы с темными силами, с «имущим державу смерти» и из постоянной победы света, в которой он был неустанным участником. Это была «творческая непрерывка», установка на свет. С утра глаза смотрели победно, как будто в душе играл оркестр и он дирижировал этим оркестром. Это был постоянный молитвенный напор. Эта постоянная радость и победность не подпускала к нему уныния...» Такие же качества стремился он воспитать и в двух своих ученицах, уже упомянутой О.Н. Сетницкой и ее подруге Е.А. Крашенинниковой, «дочерне-творческом активе», как называл он их в своих письмах и стихах. Эти «духовные дочери» Горского и сохранили его архив.
«Психофизиологическое восстановление отцов и предков», о котором трактует «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова>, невозможно без совокупного действия объединенного человечества, объединенных сынов на мироздание во всей его совокупности. Никакой изоляцией сферы действия, никаким делением осязаемого, слышимого, зримого, воображаемого или представляемого на отдельные участки, разряды и планы здесь уже не обойдешься.
Давая картины возможных путей и способов воскресительной деятельности, Н.Ф. Федоров ни на минуту не забывает (как это обычно делают почти все, рассуждающие об этом предмете) о теснейшей связи между возвращением к жизни погибших поколений и расширением влияния человека в воздушном и безвоздушном пространстве. Одно без другого немыслимо <...>. Так созидается в проекции Федорова новое небо, небо как поприще труда, а не праздного созерцания.
Все жители Земли становятся небожителями. Все земное неотрывно от небесного, ибо вся Земля есть небесное тело, согласно коперниканскому мировоззрению, и все звезды суть такие же земли, как и наша планета. <...>
Пересоздание Земли невозможно без одновременного пересоздания неба. Оздоровление и пропитание человечества связано с космической регуляцией. «Нет смерти вечной (абсолютной), а уничтожение временной есть наше дело и наша задача»; «Жить должно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех»; «Объединение всех живущих имеет целью работу над воскресением всех умерших» – таковы излюбленные лозунги автора «Философии общего а».
Регуляцию, управление, творческое обладание как норму истинного отношения человека к природе всюду противополагает он современно-паразитическому «пользованию», «эксплуатации», истощающей природные ресурсы без умения их накоплять и восстанавливать, и требует превращения всего дарового в трудовое, бессознательного – в сознательное.
Пересозданию физического мира соответствует столь же радикальное переустройство психики; точнее, как было выше показано, самая мысль о возможности действенного управления космосом возникает в человеке и становится определяющей его поведение силой лишь по мере происходящего в нем психологического переворота – «обращения сердец сынов к отцам». Проблема новой психики столь же повелительно и неотложно встала на закате XIX и заре XX в., как и потребность наново воссоздать картину мира физического. Федоровым уделялось немало внимания вопросам психологического исследования, взаимознания, ведущего к тому, что чужая душа (да и своя собственная) перестанет быть потемками и наружность не будет обманчива. Тогда станет возможным сближение людей по внутренним душевным свойствам, психическая группировка, классификация, «психический подбор». Параллельное изучение физиологических процессов, связанных с полным развитием, сделает, наконец, возможным превращение основной жизнетворческой (эротической) энергии, дробимой и распыляемой доселе на сексуальных путях и распутиях, в сознательную работу созидания (или восстановления) тела.
В этом пункте проектика «Философии общего дела», естественно, должна принять в свое русло одно из самых плодотворных научных движений нашего века – психоаналитическую школу Фрейда*180. Завоевания психоанализа огромны; раскопки душевных глубин, начатые специалистами клиник, мало-помалу охватили все сферы человеческого мышления, творчества и обыденного жизненного поведения. Работа еще слишком далека от конца; последние выводы не сделаны, результаты наблюдений не вполне учтены и уяснены самими вождями школы. Но того, что уже добыто, что выкристаллизовалось за два десятка лет, более чем достаточно для узрения полнейшего тождества индукций психоанализа с парадоксальными (как могло казаться) догадками и утверждениями Н.Ф. Федорова. Выслежены причины, психические корни смерти: на множестве примеров показано, как обычная, типичная, «нормальная» смерть является бессознательным самоубийством.
Не такова ли психическая подоплека всякой смерти? И что получится, если бы удалось изменить хотя бы только эту смертолюбивую направленность нашего подсознательного? В чем ее источник? Основы всех душевных движений и жизненных установок психоанализ ищет в психике раннего детства. Только у ребенка теплится здоровое, не ущемленное чувство жизни, совершенно неотделимое от понятия ее вечной восстановляемости, возгораемости, от идеи воскресения и воскрешения. <...>
Для неиспорченного ребенка, для «евангельского дитяти» (как любил выражаться Федоров), совершенно непредставим столь дикий абсурд, как смерть «окончательная». Чтобы вбить в голову это противоестественное понятие, требуется долголетнее давление «воспитания», оглушающий гипноз стада «взрослых и умных людей», угнетающая пытка страхом, отчаянием и т.п. Наконец, мозг тупеет, робеет, не умеет додумать до конца ни одной мысли, забитый, замордованный человек покоряется бессмыслице, возводя ее в перл житейской мудрости: «сила солому ломит», «выше головы не прыгнешь», «плетью обуха не перешибешь» и т.п.
Лишь немногие – единицы, тоже большей частью всё же искалеченные разными «комплексами», но не сдавшиеся, удерживают в себе психику ребенка, его жадное любопытство к миру, полному неизведанных и неисчерпаемых возможностей, продолжают мыслить и творить, искать и находить. Их пробуют заставить замолчать или затравить. Когда это не удается, их объявляют «гениями», а добытые ими откровения, найденные источники новых сил стараются свести на нет, приспособить их все к тому же безнадежному «житью-бытию», подвластному «абсолютной» и «непобедимой» смерти. Массовые коллективные внушения (одним из главных видов коего служит воспитание) есть самый зловещий фактор истории. Психоанализ дает право категорически утверждать, что лишь бесконечные инфантильные травмы являются истинными источниками -затормаживания деятельности человечества на путях творческого овладения природой. Если бы нашим детям оставлялась хотя бы мысль о возможности реальной победы над распадом тела, иные подрастали бы поколения. Вовсе даже не требуется и не всегда полезна обратная внушаемость, т.е., например, обязательная вера в победимость или принципиальную побежденность смерти. Достаточно было бы указания на проблематичность привычного факта, на нерешенность задачи, на то, что «взрослые» в этой области совсем не так много сделали и не так много знают, как это хочется или думается ребенку. Мнимые «взрослые» – лишь испорченные дети, не смеющие сами себе наяву признаться в правоте элементарного требования родственного чувства, дающего о себе знать в их же сновидениях.
Психоанализ в лице его основателя и творца З. Фрейда очень долго ограничивал себя методологией научного исследования, не претендуя дать всеобъемлющую картину душевной жизни. Поскольку всё же такая картина намечалась и напрашивалась как итог изучения отдельных сфер и слоев психики, многие из приверженцев и противников Фрейда готовы были характеризовать это мировоззрение как пансексуализм. В настоящее время это вульгарное истолкование психоаналитической концепции (хотя и распространенное в широкой публике) должно быть оставлено: оно не имеет под собой ни малейшей почвы.
Последние работы Фрейда сделали окончательно ясным то, что для умеющих мыслить не вызывало сомнений и ранее: «сексуальность» есть вовсе не первичный и не всеобъемлющий фактор психической жизни. Самый раскол, разделение полов, есть дело вторичное и производное, возникающее в результате противоборственного смешения влечений жизни (Эроса) и влечений смерти (Антэроса)». Автору «теории сексуального влечения» нужно было стать «по ту сторону принципа наслаждения»*181, чтобы крепко упереться в аксиому, впервые выведенную автором «Философии общего дела»: «вопрос о силе, заставляющей два пола соединиться в одну плоть для перехода в третье существо посредством рождения, есть вопрос о смерти»*182.
Разумеется, психоанализу в его нынешнем виде слишком далеко до синтетической проектики воскрешения, воспроизведения жизни, «как огонь от огня». Однако уже и сейчас если не рядовые работники психоанализа, то сам гениальный вождь их вынуждается порой задуматься над будущим культурного человечества. С точки зрения вскрытой анализом борьбы психических и органических сил это будущее представляется ему не в очень радужном свете. Импульсы деторождения иссякают и будут иссякать по мере роста культуры. Всякого рода сублимации полового влечения, накопляя бесконечные культурные ценности, не обеспечивают, однако, сохранения самой жизни и не создали совсем ничего похожего хотя бы на те примитивные и расточительные способы – пересадки жизнезаряженных клеток на новую почву, какие выработаны практикой размножения животно-растительного мира. В дисгармонии коренных влечений человеческого организма Фрейд склонен усматривать безысходное противоречие почти биологического свойства. <...>
«Цель нашей науки – ни пугать, ни утешать», – оговаривается основатель психоанализа и скромно добавляет: «Я и сам готов допустить, что такое общее заключение следует построить на более широком основании и что, может быть, некоторые направления в развитии человечества могут помочь исправить указанные нами в изолированном виде последствия».
Безнадежны, однако, будут поиски более широкого и прочного основания, более верного и прямого направления в развитии человечества, нежели то, какое указано великим русским мыслителем, предвосхитившим открытия Венской психологической школы*183. Выводя все психические и психофизиологические свойства и особенности человека, по сравнению с животными видами, из принятого им вертикального положения, Федоров постоянно указывает на несоответствие между этим положением и животным способом размножения. Например, приведя слова автора «Записок врача» Вересаева*184: «Органы человека и их размещение до сих пор не приспособились к вертикальному положению, и особенно у женщины: смещение матки – очень частая болезнь. Между тем многие из этих смещений совсем не имели бы места, если бы женщина ходила на четвереньках», Федоров заключает: «Таким образом, можно сказать, что процесс рождения не свойствен существу, принявшему вертикальное положение»*185.
Овладение бессознательным для Фрейда обозначает прекращение процесса вытеснения. Федоров тому же термину «вытеснение» дает лишь более широкое содержание, определяя самый способ нынешней жизни как вытеснение младшими поколениями старших, детьми – родителей. Вытесняя, выталкивая отцов из жизни внешней, физической, а их образы из жизни внутренней, психической, сыновья тем самым уродуют, калечат, раздваивают свою психику и, конечно, оказываются не в силах сохранить и своей жизни. Поворот сердец сынов к отцам, как бы он ни был по внешности скромен и незаметен, будет событием космического значения. Необозримы его следствия в плане религиозно-художественном, научном и трудовом.
Область, разрабатываемая психоанализом и смежными течениями мысли, находится как раз в той сфере, где новая наука граничит с новым искусством.
Общепринятым стало утверждение о кризисе, переживаемом искусством нашей эпохи. С одной стороны, говорят о гипертрофии искусства, с другой, ставится вопрос о его мысли и цели, о надобности его в современном обществе, о роли его в производстве и т.д. Эпоха торжествующего символизма была как будто последней вспышкой художественного энтузиазма, огромных, хотя и смутных, жизнетворческих замыслов и заданий. Всего этого хватило не надолго. С момента разложения и упадка символизма художник сам глубоко усомнился в праве своем на существование.
В западной фаустовской культуре роль художника кончена, утверждает Шпенглер*186, и ему остается лишь добровольно и радостно уступить свое место инженеру, технику, механику. «Моя поэзия здесь более не нужна, да я и сам здесь никому не нужен», – восклицает самый певучий и пленительный из молодых русских поэтов наших дней, кошмарным самоистреблением удостоверяя искренность своего заявления*187. <...> Без ясного же смысла, без твердо поставленной цели искусство не имеет шансов выжить в наступившую эпоху. Общепринятые эстетические теории то снижают значение искусства до игры, до забавы, праздного развлечения («искусство для искусства»), то закабаляют его на служение внешним и чуждым, отнюдь не восхищающим и не вдохновляющим подлинных художников, целям*188. Связь искусства с эротическим возбуждением, с космическим расширением существа, стремление его к воспроизведению органической жизни – иными путями, нежели пути бессознательной животности*189, – все это совсем игнорируется или затемняется господствующими теориями. <...>
Бессилие и несовершенство отдельных искусств заставляло выдающихся художников строить планы их соединения. Касаясь проблемы синтеза искусства, Федоров наглядно показывает, в чем «ошибка Шопенгауэра, Р. Вагнера и их преемника Ницше, соединивших все средства для увлекательного изображения гибели рода человеческого, а не для спасения его от погибели»*190.
Трагический синтез есть наследие отчаянно-оргиастических культов древности, где воскрешение мыслится лишь в виде «одержания предками потомков».
Трагедия возникает «из духа музыки»*191, диссонирующей, нестройной, недостроенной и не нашедшей своего завершения в архитектуре. Такой зодческий, архитектурный синтез, конечно, и немыслим без прояснения в сознании христианского, православного, литургического плана всеобщего спасения.
Культ агнца – литургия исключает надобность культа козла – трагедии*192.
«Должны ли все искусства соединяться в трагедии, как изображении гибели мира, или же все искусства должны соединяться в архитектуре, как проекте мира, все погибшее воскрешающего, через все знания, объединенные в астрономии?»*193 <...>
Всё, что до сих пор именовалось архитектурой, с точки зрения Федорова, лишь крохотные начатки, робкая проба того, что может и должно быть. Архитектура орудует с силой тяжести, ее задачи до сих пор сводились к переворачиванию тяжелых глыб, к приданию грузным неорганическим массам подобия стройности и жизни организмов.
Зодчество будущего должно иметь дело не только с камнями и металлом, но и с атмосферическими токами – с электричеством и эфиром, с магнитными полями. Сила тяготения современной физикой сведена к магнетизму. Тем самым вся «тяга земная» отдается в распоряжение новых космических зодчих. Сооружение магнитных столбов и арок, искусственных полярных сияний и т.д. и в конце концов управление движением Земли и планет явятся естественным следствием развития и роста атмосферической и метеорологической регуляции. Сама эта регуляция и немыслима без гармонизации воздушных волн (атмосферической музыки), что будет вместе с тем и гармонизацией общечеловеческой психики.
Связь «настроения» с «погодой», с течениями воздушных волн не нуждается в доказательствах. Образы темной, обольщающей и угнетающей душу силы недаром именуются в Св. Писании «князьями власти воздушной». Борьба со злом психически всегда есть борьба за власть в воздухе. Но подлинной властью можно назвать лишь гармонизацию хаотических воздушных волн. Такая гармонизация дана во всяком «лирическом» (т.е. стройном, построительном) волнении, в каждом творческом возбуждении художника. Однако оно не продолжительно и не устойчиво. Космическое зодчество мыслится как упругая, не затихающая, не затухающая, не разрушающаяся музыка, как движущиеся прозрачные (но отнюдь не «призрачные») стены и своды магнитных полей. В открываемые ими ясные просторы каждому организму дается возможность «излиться, наконец, свободным проявлением»*194.
Мы не станем подробно останавливаться на перспективах, открываемых для человечества литургически понятым синтезом искусства. В сравнении с сегодняшней жалкой действительностью все это легко может людям, далеким от художественного мировосприятия, показаться фантастическим, беспомощным и бесполезным бредом. О такой высоте и широте, какая дана вопросам «эстетики» в «Философии общего дела», никогда не смели даже мечтать самые отважные творцы и теоретики в этой области. Искусство, по мнению Федорова, есть «именно то, что организует и упорядочивает науку». Художественно-творческая деятельность (координация образов) есть начало и конец – предпосылка и проверка деятельности научно-исследовательской (координации чисел), как последняя, в свою очередь, организует и упорядочивает деятельность хозяйственно-трудовую (координацию усилий).
«Наука доказывается искусством», и коперниканская астрономия, вмещающая все науки, доказывается небесной архитектурой, обнимающей все искусства, основанные на небесных механике, физике, химии, физиологии, антропологии и всей истории*195. Заветная цель всякого ученика (ученого) – стать мастером (искусником, художником). Всякое искусство имеет свою учебу, свою технику.
Но технику (науку) современных разрозненных видов искусства можно назвать по большей части искусственно-научной, т.е. условной, нарочно выдуманной. Техника же естественнонаучная доселе еще не находит путей к переходу в искусство. Изобретателей, например, мы не можем все же назвать художниками. Однако они нечто уже большее, чем просто ученый; это подмастерья, но еще не мастера. Значит современная наука, возникшая на развалинах средневековой из коперниканского мировоззрения, еще не достигла степени искусства, она еще должна быть доказана и оправдана соответственным ей коперниканским мировоздействием*196. Всё, чему присваивалось имя нового искусства, есть в той или иной степени реакция человеческого духа на картину мироздания, открывшуюся Копернику и его продолжателям.
В этом смысле Эдгар По, изложивший свою теорию космического строя в трактате «Эврика», был, оказывается, отцом «нового искусства». «Эдгар По, – писал в своих заметках А. Блок, – подземное течение в России»; потому подземное, что в надземном все еще продолжаются попытки художников поворотить оглобли к птоломеевски-платоновскому двоемирию, к вечному разделению земли и неба. Являлись даже покушения оправдать этот дуализм научно, сведя теорию Коперника на роль недоказуемой практически, непроверенной и не могущей быть проверенной гипотезы.
Все это не спасет «старого» искусства. Перед ним встает неотвратимый выбор – либо признать себя иллюзией, опьянением, родом наркоза, «возвышающим обманом» (мнимо и кратковременно возвышающим), либо всецело стать чертежом, проектом, пробой, черновым наброском, упражнением, подготовкой, прощупью путей к настоящему, подлинно-творческому, реально преобразующему мир, перестраивающему небо искусству. По-видимому, уже и сейчас дело стоит так, что отныне всякое сколько-нибудь крупное явление, даже в области отдельного искусства, тем более всякая серьезная попытка художественного синтеза, не может не принять во внимание перспектив, развернутых мыслью Н.Ф. Федорова.
<...> Искусство, уводящее от жизни, тепличное, оранжерейное, искусство экономически привилегированных и внутренне вырождающихся сословий теряет последние крохи своего очарования. Правда, некоторые группы художников и теоретиков выдвигают лозунг: искусство должно строить и организовать жизнь*197. Но при малейшей попытке конкретизации этого лозунга оказывается, что искусство должно раствориться в производстве... мертвых вещей. Короче и откровенней – искусство должно умереть как таковое. <...>
«Искусство, – говорят нам, – должно раствориться в жизни». Но как протекает и чем кончается эта самая жизнь, которая растворит в себе искусство? Протекает она, как водится, в медленном или убыстренном разложении и распаде органических тканей. Кончается же она, разумеется, смертью. Выходит, что от растворения в себе тучной коровы искусства тощая корова жизни сама ничуть не пополнеет, скорее, вовсе протянет ноги. Иное дело, когда искусство поставит ясную задачу органического противодействия всякому падению и распаду, борьбу «с духом тяжести». Уже начали сознавать, что конструкция техническая (современной орудийной инструментальной техники) не имеет еще в себе признаков конструкции художественной, что, например, вся новая архитектура донельзя удалена от искусства и не ищет путей к нему. «Строитель небоскребов раболепствует перед жестокой и требовательной трудностью, под которой человеческая фантазия задыхается, как улитка под тяжелой скорлупой... Двадцатый век не шутит. Известные идеи требовали внешних форм. Вот они. Благодарите же архитектора и живите в этих домах. Вы не можете? Эти прямые линии и голые стены способны довести до самоубийства?»55.
Что ж, к этому, видимо, как раз и хотели подвести вас «известные идеи».
Идеи другого рода вам остались неизвестными, не правда ли? Между тем не один Н.Ф. Федоров приходил к определению искусства как противодействия падению, как стремления овладеть силой тяготения, снять с ядра телесной жизни тяжелую скорлупу инертной и косной магнитной среды. Добросовестное наблюдение любой области художественного творчества всегда уполномочивало теоретиков на такого же рода утверждения.
«Изучение синэстетического характера произведений искусства на основании теорий профессора Ле-Дантека*198 об имитации и коллоидных резонансах позволяет думать, что артистическое чувство есть лишь одна из функций тяжести. Изучаем мы жест (пластику) или слово (звук), мы все равно должны прийти к неизбежному заключению, что искусство есть выразительная форма всемирного тяготения»56.
Этого рода мысли доселе не получили еще должного резонанса в широких слоях «мыслящего» общества. Оттого идея архитектурного литургического синтеза искусств все еще остается уделом немногих, творящих пока «про себя» художников. Но будущее явно за ней, если только вообще искусству и культурному человечеству суждено будущее. Музыкально-символический синтез недавних лет*199 не смог окончательно избавить художников от трагизма, от кошмара бесцельности и бесплодности. Лучшее, что он дал, были «предчувствия и предвестия». Теперь они должны кристаллизоваться в проекты и планы. Религией дается предельная целевая установка, организующая искусство. Недостаточная включенность искусства в литургию, существование «светского» искусства, реставрирующего языческие культы, свидетельствуют лишь о слабости и робости христианского религиозного сознания. Если практика умного делания*200, рекомендуемая не для одних только пустынников, но и для мирян, требует непрерывной молитвы, требует, следовательно, чтобы молитвой было наскозь проникнуто, от молитвы неотделимо, молитвой вдохновляемо и направляемо всякое человеческое чувство, желание и действие, то нельзя не признать, что это представимо и осуществимо лишь в случае определенной целеустремленности, в случае превращения всех жизненных действий и отправлений в частицы единого дела, соборно совершаемого по единому плану. План же этот заимствовать неоткуда, как только из чинопоследования литургии, где молитва всей церкви, возносясь к своим вершинам, достигает по ощущению верующих (верных) крайней точки своего действия на видимую косную среду – пресуществления (существенного изменения внутренней формы).
Художественное вдохновение есть состояние, наиболее близкое к вдохновению молитвенно-религиозному и благодатному освящению и пресуществлению. Пронизанное, организованное, освобожденное от хаотической мути и демонических срывов молитвой, искусство, в свою очередь, организует науку, координируя, упорядочивая и направляя по намеченным путям всю аналитическую, исследовательскую, испытательскую деятельность человечества, включая и ее в молитвенно-литургическое действие. И только таким путем организованная наука сможет уже по-настоящему организовать весь человеческий труд. Недостаточная включенность искусства в литургию создает почву для «обольщений второго апокалипсического зверя»*201 (магнетически-гипнотических массовых внушений), недостаточная включенность науки в искусство порождает силу зверя первого*202 (механически-принудительных «организаций»).
Правильная организация труда, иначе сказать, нормальное взаимоотношение труда и науки было предметом исключительного внимания и размышления Федорова. «Философия общего дела», по самой сути, должна быть осмыслением и оправданием «дела» – работы, труда. Философия Федорова – это грандиознейший апофеоз труда, какой только когда-либо создавала человеческая мысль. Но труд всемогущ и плодотворен только при условии нераздельного слияния его с наукой. <...>
Примененная на американских заводах система инженера Ф. Тэйлора*203, первые методы хронометража и учета трудовых усилий оказались тем горчичным зерном, из которого выросло огромное научно-производственное движение, охватившее все культурные страны. Все как-то сразу вдруг постигли, что труд человеческий должен быть, наконец, организован, что наука есть именно та сила, которая его организует. Однако настоящая стадия движения позволяет, в сущности, говорить не столько о научной организации, сколько о «полунаучной механизации» труда. Для того чтобы организовать труд по-настоящему, наука еще сама должна быть сколько-нибудь серьезно организована.
Мы не имеем сейчас науки цельной и всеобщей, о которой в свое время мечтали Бэкон, Лейбниц, Конт и др. <...>
Наука не организована вдвойне – как сумма понятий и методов, с помощью которых человек стремится познать мир и управлять им, и как род деятельности, направленной на добывание и обработку этих понятий и методов. Если организация науки во втором смысле, т.е. научной деятельности, как одного из видов труда, как одной из форм траты человеком своей трудовой энергии, могла бы быть достигнута средствами самой науки, то организация ее в первом и основном смысле, т.е. координация того множества идей и методов, какие накоплены на путях научно-познавательного процесса, требует уже нового организационного принципа, сверхнаучного, требует, как мы выше видели, принципа художественного. Те способы организации труда, какие выработал тейлоризм и ряд ответвившихся от него направлений, можно рассматривать как первые лишь прощупы и частичные пробы еще не осознанного всеобщего организационного плана. Чем шире развивается управленческое движение, тем углубленней становятся проблемы социальной инженерии, чем серьезней работникам просвещения и культуры приходится задумываться над вопросом взаимоотношения физического и умственного труда, тем резче вырисовывается срочная необходимость найти достаточно четкий, организационный принцип для этого последнего. Современность наша вплотную, наконец, придвинута к двум, крайне простым вопросам, на которые тщетно ждал ответа философ общего дела от своих современников. Берем их формулировку из неизданного письм Н.Ф. Федорова.
Вопрос первый: «Доросла ли наука до необходимости иметь центр и органы повсеместно?»
Вопрос второй: «Может ли эта организация держаться без священной цели воскресения?»
На первый вопрос слышим все чаще и громче ответ утвердительный. Ряд выдающихся представителей самой науки крайне озабочен созданием мирового научного центра. Еще перед германской войной В. Оствальд*204 призывал к международной консолидации ученого мира, к образованию «всемирного ума», мозга земного шара. Эту цель ставило основанное в 1911 г. в Мюнхене общество «Мост». Однако опыт мировой войны и поведение самого Оствальда и других выдающихся ученых, всецело поддавшихся националистической, шовинистической эпидемии, наглядно показали, сколь неустойчива подобная организация, не воодушевленная священной целью.
Всемирный ум с необыкновенной легкостью сдается в плен всемирному безумию и рабству, служению темным страстям, таящимся в коллективном подсознании. Оправданием такого служения выставляется патриотизм, т.е. связь с отцами и предками. Полное примирение отдельных племенных, расовых патриотизмов немыслимо до той поры, пока от темного стихийного и частичного воспроизведения предков (рождения) не обозначится переход к воспроизведению их явному и всецело-сознательному (воскрешению). Наука неизбежно будет служить либо тому, либо этому, но в первом случае ее «организация» построится на песке (на хаотической основе) и послужит в конечном счете еще большей дезорганизации и распаду. О «продуманном, исчерпывающем учете научных сил в мировом масштабе», о «мировом объединении ученых» мечтают и сейчас многие видные деятели европейской науки. У нас настойчиво повторяет эту мысль академик С. Ольденбург*205. «Прежде всего надо познать себя, – обращается он к своим товарищам по научной работе, – а себя мы не можем познать, пока мы только какие-то раскиданные по всему свету песчинки, чуждые одна другой. А ведь если действительно захотеть, не пройдет каких-нибудь двух лет – и мы сможем смело подсчитать все свои силы и приступить к созданию плана великой мировой научной работы. Гении, великие творцы укажут цели и пути, наметят возможности, и по новым путям двинутся уже не орды кочевников, способных только на набеги, а стройные ряды работников, которые шаг за шагом, обрабатывая землю, по которой пойдут, совершат мирное и окончательное завоевание земли для творчества созидательного»57.
Остановка, оказывается, за малым, стоит только захотеть. Почему-то, однако, хотение человечества не направлено в эту сторону с достаточной силой. Не потому ли, что цели объединения все еще не указаны и не ясны ни рядовым работникам науки, ни даже самим «гениям» и «творцам»? Как на образец ожиданий и надежд, какими сейчас воодушевлены авторитетнейшие из научных деятелей, сошлемся на речь академика А. Ферсмана*206 «Пути к науке будущего», «Среди уроков, среди великих экономических потрясений человечества значение научного творчества в государственной жизни народов, – свидетельствует этот ученый, – сделалось общим лозунгом. <...> Из лабораторий и кабинетов высших школ наука переходит к собственным формам организации. Я вижу первую тропу к науке будущего... Я вижу ее, эту науку, как мирный государственный механизм, я вижу всемогущую власть ее и ее деятелей, могучее подчинение науке всех элементов государственной жизни, торжество мысли, творческих порывов. В этом будущем строителем жизни будет ученый, не оторванный от окружающего мира, а тесно связанный с ним: он будет иметь свое право владеть этим миром, ибо только его достижениями будет этот мир жить. Время кустарной работы прошло, прошло время индивидуальных порывов, разбросанной, бессистемной методики. Героическое время науки в прошлом, надо строить ее сейчас иначе, необходимо согласование и соединение, необходимы новые формы научного творчества. И, сочетая красоту и величие индивидуального творчества с коллективным трудом, наука на грядущих путях должна сама построить себе новое здание. Я не знаю, как она его построит, но уже сейчас можно сказать, что это будет одно здание для всего человечества и что великое объединение народов будет только под знаменем единой науки и единой мысли. Вижу ясно этот второй путь к науке будущего: путь торжествующего слияния народов под все растущею мощью научной интернациональной организации»58. <...>
Вопрос весь в том, что растет быстрее: интернациональная мощь организующейся науки или стихийные антагонизмы разрозненных частей человечества. «Одно несомненно, – заканчивает свою речь академик Ферсман, – будущее зависит от самого человека, оно зависит от нас самих, если мы только сумеем сквозь окружающий нас мрак пронести к светлому будущему яркий факел науки».
Роковое «если» должно заставить всех тех, кто серьезно сознает свою ответственность в столь исключительный момент истории, напрячь всю силу мысли и воли, чтобы «суметь». Стоит понаблюдать, из каких элементов слагается «окружающий нас мрак», чтобы сейчас же заметить, что в сложении и сгущении этого мрака принимает крайне деятельное участие чад, идущий как раз от факела, если не науки (ведь сама наука как нечто целое и единое еще только собирается и хочет быть), то от множества отдельных не согласованных друг с другом наук, от той полунаучности, от той недодуманной, недоразвитой «полунауки», которую так метко характеризовал Достоевский (устами Шатова в «Бесах»): «Полунаука – самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука – это деспот, каких не приходило до сих пор еще никогда; деспот, имеющий своих жрецов и рабов, пред которым трепещет даже сама наука и бесстыдно потакает ему».
Никакой фанатизм религиозного изуверства, отличавший былые века, не годится в сравнении с фанатизмом сектантов науки. Становясь общественной силой, такая научная секта обычно стремится дать «разумное» оправдание тому или иному виду национального, расового, сословного или профессионального антагонизма, входит в контакт с самыми темными, придавленными в процессе культурного роста страстями человеческой природы, разнуздывает их и тем самым всячески способствует углублению и ускорению общественного распада. В жуткой картине современности ак. Ферсманом не оттенены черты, составляющие специфическую особенность нашей эпохи. <...>
Чтобы пронести тот факел, о котором говорит академик Ферсман, объединить человечество для созидательной работы и разогнать нависающий мрак и угрозу гибели всей культуры, наука в первую очередь должна одолеть самого страшного своего врага, самого немилосердного деспота – полунауку. Нет сомнения, что даже внешне организоваться в международном масштабе ученые никогда не смогут и просто не успеют предупредить в этом организацию иных темных и зверских сил, если только одновременно не произойдет объединение разрозненных наук в цельном мировоззрении, в четко разработанном общеприемлемом плане единого мировоздействия. Контуры такого мировоззрения как будто начинают уже выкристаллизовываться из хаоса неопределенного множества «моделей», условно-гипотетических картин мира, коими изобиловали частные науки или даже одна и та же наука в интерпретациях разных школ. С того момента, как физика переварила и растворила в себе механику, превратила ее в отрасль электродинамики, физика обнаруживает ясную тенденцию стать наукой наук, единой наукой о «естестве», о природе. Можно сказать, что ни одна из современных наук не свободна от ее воздействия.
Всё расступается перед методами физики, всё в нее вливается, как часть в целое.
«Ее методика, – заявляет академик Ферсман в упомянутой речи, – раздвигающая ежечасно рамки познаваемого мира, ее математический анализ и глубокий философский подход глубоко захватили в своих завоеваниях области других дисциплин: уже повелительно распоряжается физика в старом царстве химии, создавая совершенно новый мир понятий и ставя перед химией новые проблемы химической физики. Старая кристаллография превратилась в главу физики о строении материи; минералогия, геохимия и астрофизика стали сливаться в совершенно новую область научного познания»59.
«Единство мысли и единство метода – вот что несет за собою торжествующая физика, и все точное положительное знание объединяется вокруг этой научной дисциплины, в ее методах видя правильные пути успеха». Науки гуманитарные и исторические, не сумевшие пока пойти далее сравнительного метода исследования, тоже потянулись на новый путь. «Уже врываются новые методы точного анализа в старую археологию и социологию, психологию и генетику человеческого рода; уже наука о доисторическом человеке перешла в область господства естественноисторической мысли...» <...>
«И человек, упорно анализируя жизнь и ее проявления, ищет способов управления ею: он открыл в ультрамикроскопе мельчайшие живые организмы, соизмеримые с длинами световых волн, содержащие в клетке небольшие количества молекул вещества, он в электрокультурах с огромным успехом ускоряет процесс роста некоторых растений, намечая новые пути к культурам будущего. Он пытается вмешаться в явления наследственности и, глубоко проникнув в ее законы, не только создает новые области знания генетики, но и властно направляет развитие организованного мира по тому пути, по которому хочет его воля и мысль. Широкой волной разливаются идеи евгеники, и будущее человеческого рода, его физический и умственный прогресс рисуется как закономерный, природный процесс, легко регулируемый сознательным участием в нем самого человека. Наконец, над жизнью самого индивидуума он пытается захватить власть... Пусть несмелы еще эти пути, пусть еще не решена проблема жизни, всё же первые опыты сделаны, надо их углубить! И одновременно с этим идет завоевание самых высоких проявлений природы человеческой мысли и психики. Новые естественноисторические методы врываются в область психологии и физиологии чувств. Уже рисуется в теориях ионного возбуждения академика Лазарева движение человеческой мысли, как электромагнитные волны, и упорным трудом пытаются ученые уловить эту область психической жизни точными методами электромагнитного анализа. Как ни слабы еще эти попытки, но они нам определенно говорят, что весь мир человеческих переживаний, сама творческая мысль человека явится последним высшим этапом научных исследований физики.
Может быть, мы не знаем еще тех волн, которые определяют существование психической деятельности, может быть, там, далеко, за пределами 5-го знака световой волны (10-5), за минус девятым знаком волны рентгеновских колебаний лежит этот неведомый пока мир»60.
С вопросом о непосредственной передаче электромагнитных вихрей (волн), излучаемых человеческим организмом, вплотную сталкивается сейчас школа академика Лазарева. Согласно ее утверждению, живое существо (человек) играет роль трансформатора, превращающего одни виды энергии в другие, и в том числе в нервную. О перспективах возможных достижений, отсюда открывающихся, вот что пишет один из учеников Лазарева – инженер С.А. Бекнев: «Когда человечество овладеет вполне методами и законами трансформирования новой энергии, то ясно, что для него откроются совершенно новые горизонты.
Если человечество может превращать световую энергию в нервную, то и обратно: организм сможет трансформировать энергию нервную (энергию мысли) в световую. Человеку не нужен больше свет, он сам является источником такового. Где он появляется, там светло и тепло. Когда человек будет в состоянии координировать по желанию превращение нервной энергии в механическую, то ему нетрудно будет устранить силу притяжения, а следовательно, вопросы передвижения без каких-либо приборов легко осуществляются сами собой только как результат мышления. Передача силы на расстояние, наоборот, обусловит развитие сил притяжения и связанные с ними возможности созидать такие сооружения, которые, по громоздкости входящих в них предметов, до сего времени были недоступны. Далее возможно электрохимическое влияние на видоизменение строения вещества, на произрастание растений, на образование не только новых живых организмов, но и различных (весьма сложных космического типа) систем микромасштаба»*207.
Подобные картины будущего, столь живо напоминающие последние страницы Откровения Иоанна (город «не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его... спасенные народы будут ходить в свете его... ночи там не будет... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды»*208 и пр.), являются уже в настоящее время единственно надежной путеводной нитью для всякого, кто захочет основательно продумать всю проблематику организации и максимальной производительности труда. И мы уже имеем целый ряд теоретиков и практиков научной организации труда, сумевших в той или другой степени учесть роль космической проектики как стимула трудовой производительности. <..>
Космические перспективы и творчески преобразовательные цели, открывающиеся для объединенного в труде человечества, оказываются, таким образом, необходимой предпосылкой для самой возможности планомерной и плодотворной организации труда. Тем яснее, казалось бы, необходимость их для организации науки, при которой она могла бы иметь свой «центр и органы повсеместно». Чем и как ученые убедят неученых идти за ними? Сможет ли наука, объединенная и целостная, увлечь за собой трудовые массы народа? Для этого научное мировоззрение должно оказаться нагляднее, представимее и понятнее той приноровленной к невежественному вкусу стряпни и мазни, какую не устают преподносить народу фанатические сектанты полунауки.
Для людей, далеких от математической физики, будет ли сколько-нибудь ощутима и представима та картина мироздания, какая вырисовывается из совокупности современных физических теорий и гипотез? О непредставимости, почти непереносимости этой картины для обыденного сознания красноречиво свидетельствуют сами теоретики. Мир привычного, трехмерного пространства, мир твердых, плотных, осязаемых вещей, предметов, на которые можно опереться, этот мир перед остротой пристального взгляда современной физической науки растаял, расплавился, испарился без остатка. Чем дальше, тем больше вынуждаемся мы ориентировать все свои восприятия и предприятия не на осязание, а на зрение, на скорость света – эту, отныне поверочную, инстанцию всякого движения и действия. Длина и форма тел меняются от их положения в пространстве: в новом четырехмерном пространстве, включающем в себя время как одно из своих измерений, причем вполне произвольным остается взаимоотношение координатных осей, одну из которых мы, по желанию, интерпретируем как ось времени. С того момента, как процессы движения, по существу, свелись к электромагнитным процессам и Вейль*209 получил возможность, наряду с чисто геометрической теорией тяготения Эйнштейна*210, построить чисто геометрическую теорию электричества, между магнитным полем и полем тяготения выяснилось закономерное геометрическое соотношение.
С физической точки зрения геометрический квант оказывается действием, умноженным на постоянную скорость света, причем под действием понимается произведение энергии на время. Другими словами, не повышая до крайней степени всей своей органической действенности, актуальности, сейчас трудно ориентироваться и просто нельзя выстоять на космическом ветру, среди эфирных зыбей электромагнитного океана Вселенной, где скрещиваются, плотнеют или рвутся бесчисленные узлы силовых линий, где «первообразы кипят, трепещут творческие силы», где «в мировом дуновенье», в дыму «живого алтаря мирозданья», «вся сила дрожит и вся вечность снится». Вот чего, собственно, требует от нас новая физика. Она приводит нас в то место, где, как разъяснил вагнеровскому Парсифалю Гурнеманц*211, «Zum Raum wird hier der Zeit» («Здесь время обращается в пространство»). Она требует, чтобы всеобщим и привычным стало то состояние организма, в какое лишь изредка приходили экстатики, поэты и художники на высших ступенях творческого подъема, «как-то странно порой прозревая» (Фет)*212.
Смогут ли рядовые людские организации – индивидуумы и коллективы вынести эту картину мира, не закружатся ли их головы, не подкосятся ли ноги в этом безбрежье упругих, звонких энергетических волн, на этом огнестеклянном море? Устоят ли они в этом море, не имея в руках гуслей, а в устах новой, неслыханной песни*213, т.е. не будучи творцами, художниками, действенными регуляторами, управителями и зодчими нового динамического пространства?
Ясно только одно: без заранее заготовленного и разработанного плана, без согласованного, активного воздействия на «внешнюю» среду, которая вдруг оказалась «внутренним» магнитным полем организма, сферой его бесчисленных токов действия, токов, покуда не направленных и не координированных никакой творческой целью, а лишь стихийно и сумбурно распыляющихся, без надлежащего, наконец, знания законов телегонии*214 и идеопластики, определяющих степень влияния «воображения» на органические и неорганические тела – впечатляемости мыслеобраза как узла силовых линий магнитного поля, – словом, без умения сознательного воспроизведения жизни «как огонь от огня», без стремления к такому воспроизведению огнестеклянное море новейшей физико-математики, скорее всего, окажется для человечества «озером огненным, горящим серою»*215, сферой тягчайших мучений и крайнего предельного отчаяния.
Таким образом, физика (или «астрономия»), ставшая наукой наук, единой наукой, включившей в себя биологию, психологию, социологию и т.д., именно в силу этого расширения вынуждается быть уже не только наукой, стать чем-то бо́льшим, нежели наука, она должна стать искусством (архитектурой). Элементы синтетической проектики должны получить преобладание над многообразием данных аналитического учета. В противном случае новосозданная храмина единого научного мировоззрения рассыпется и расползется по швам, прежде чем ее успеют достроить. Но само искусство, как организационный принцип высшего порядка, в свою очередь, как мы видели, хаотично и беспомощно при отсутствии последней завершительной скрепы, священной, всеобъемлющей и всеодушевляющей цели. Полунаука сдаст свои позиции науке цельной лишь при условии проясненности самой цели.
Однако этой цели никто не указывает: по крайней мере о ней избегают объявить во всеуслышание, разве только изредка тот или другой ученый высунет намек на нее из-под спуда, не решаясь открыто перечить полунауке, этому «деспоту с множеством жрецов и рабов».
Новейшие изыскания рефлексологии выявили огромную роль «рефлекса цели» в поведении человека. «Вся жизнь, – утверждает академик И.П. Павлов*216, – вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремящимися к поставленной себе в жизни цели». Смешно воображать, будто одни только высшие формы культурной деятельности – наука и искусство – смогут почему-то сорганизовать без подобной, резко перед всеми наперед поставленной и и всеми осознанной цели. Подлинно научная организация (не полунаучная механизация) труда немыслима без одновременно художественной организации науки и религиозной организации искусства.
В этом магистраль построительной мысли Федорова: армия, школа, музей, храм – четыре тесно спаянных и взаимно пронизаемых учреждения объединяют род людской в общем действии. Научно-трудовая борьба с природой, с ее косными и слепыми силами венчается религиозно-художественным планом преображения и очеловечения природы, которая нам «враг временный, а друг вечный». Вокруг очага воскрешения, храма-музея группируются центры научно-исследовательской и хозяйственно-трудовой деятельности.
С современной стадией развития научного мышления совершенно несовместима допотопная вера во всемирную «мать-природу») «непроницаемую материю», «абсолютную непобедимую смерть» и т.п. курьезные фетишистические остатки архаической, ребяческой трусости мысли. Наука стала наскозь антропологичной, все «природное», внеположное человеку, вплоть до времени и пространства, рассматривается ею как нечто относительное, приобретающее смысл лишь в соотношении с позицией наблюдателя и управителя (наблюдение всегда есть первый шаг к регуляции и управлению) – человека. Человек стал мерою всех вещей, и это для него сейчас уже не возглас пессимизма и скепсиса, как у античных софистов, но бодрый принцип ориентировочной деятельности: человек не на шутку собирается измерить собой все в мире вещи. Но измерил ли сам себя человек и чем он мог себя измерить до конца, до дна исчерпать? Единица труда – усилие – регулируется единицей науки – числом; научные числовые схемы координируются лежащим в основе всякой научной теории символическим описанием – образом. Соотношением образов друг с другом ведает искусство. Образ есть схема, детализированная до степени органической зеркальности, когда построенное бессознательно по законам органопроекции*217 орудие (мышления или действия) становится снова органом. Задача человека в мире, по мысли Н.Ф. Федорова, заключается именно в достижении всецелой полноорганности.
«Человек не приобрел себе полноты органов <...> даже относительно Земли, и потому органический мир, который должен бы быть органами человека, превратился в особое самостоятельное царство; органический мир – это органы, превратившиеся в особые существа, увековечиваемые в этом ненормальном состоянии рождением; это органы или способы, средства, коими существа, чувствующие, сознающие смертность, могли бы воссоздать из разрушенного животного вещества (а также строить непосредственно из неорганического вещества) свои организмы, скоплять запасы солнечных сил, и они-то, эти органы, превратились в особые существа, составляющие самостоятельное царство. Странное явление членов, живущих самостоятельно, даже получивших способность увековечивать свое царство, создавая себе подобных! Человек берет дань с этого царства, без коего жить, понятно, не может, но не владеет им; человек только грабит некоторые области этого царства, а с другими борется как с равными, вместо того чтобы вносить в это царство свет сознания.
Животное царство – это особые орудия, органы, получившие некоторое сознание. <...> Жизнь этих существ-органов состоит не в расширении сознания и действия, а в размножении, в увековечивании этого несовершенного, искалеченного существования; <...> Сознание у этих существ бессильно и даже не пытается руководить, управлять инстинктом размножения, и потому-то размножение, смеясь, так сказать, над разумом, расширяется; и само, можно сказать, превращается в особое существование, в бактериях, трихинах и т.п., проникает в поры вещества, живет на других существах, вселяется внутрь их.
Размножение вызывает взаимное истребление существ и увлекло на тот же путь, на путь истребления и человека, и разумное существо подчинилось тому же стремлению <...> Такое состояние есть результат недеятельности разума и служит ему глубоким укором, потому что родотворная сила есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление, на воскрешение жизни разумных существ.
Живая сила, ограниченная пределами Земли, могла проявиться только в размножении, в обособлении органов, т.е. в превращении их в особи и в полном подчинении среде: эквивалентное же замещение их может выразиться в регуляции, в воскрешении, в полноорганности, т.е. в полном подчинении органов личности, в господстве сознания, дающего, вырабатывающего себе органы. <...>»*218
В приведенном отрывке дан как бы сокращенный и потому, может быть, не для всех удобопонятный конспект всех тенденций, стимулирующих рост искусства, развитие науки, и вместе дана программа стоящего на очереди их синтетического взаимопроникновения религиозным преодолением зооморфизма. Поскольку образ зверя перестает быть для человека последней предельной (религиозной) целью, поскольку познана ограниченность животной природы, сочтено число зверя и указано ему место в ряду чисел человеческих – образ и начертание зверя*219 с помощью ума, науки (учета, исчисления) поняты, почувствованы как искаженный, оторвавшийся от полноорганного целого в результате как бы некой кастрации (глубочайшая значимость кастрационного комплекса для человеческой психики достаточно вскрыта психоанализом) блуждающий орган (вроде гоголевского «Носа»), постольку искусство оказывается в силах координировать вихри образов в новую систему зеркальностей, взаимоотражений, систему насквозь прозрачную (не замутненную, не материализованную), макроскопическое целое, где «все друг другу члены». Предельная целеустановка для искусства есть обретение того Центрообраза, или Первообраза, который бы оказался в состоянии всю целокупность мира включить в свой организм. Такой образ Совершенного Человека, свободного от зверской и скотской ограниченности (сдавленности, сплющенности «внешней тьмой»), явлен и раскрыт лишь в религиозном опыте христианства. Все дохристианские культовые образы, претендовавшие на организацию искусств (как эллинский культ Аполлона), не свободны от зооморфизма*220. Все попытки их реставрации несут в себе зародыш собственного срыва и краха. Ожидание антихриста (Аполлиона-губителя, ср.: Откровение Иоанна, гл. IX, ст. II) связано с большей вероятностью повторения подобной попытки в планетарном масштабе в эпоху объединения человечества и грандиозного расцвета знания и творчества: она, однако, может и должна быть предупреждена и, во всяком случае, вовремя парализована. Полухудожественной организации (автоматизации) науки, заготовляемой во всевозможных системах оккультизма, где непременной, явной или скрытой, религиозной предпосылкой, подосновой служит древняя вера в «Великую Мать», тьму, хаотическое, всепоглощающее ничто, магически-гипнотическому умению «вложить дух в образ зверя», чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы был убиваем всякий, кто не будет «поклоняться образу зверя»*221, должна быть противопоставлена полнота разума и творческого вдохновения. Согласно Откровению Иоанна, «победившие зверя и образ его и начертание его и число имени его» твердо станут на стеклянном море, смешанном с огнем, держа гусли Божий. Они предстоят пред Ликом Агнца, следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, т.е., уяснив себе образ Совершенного Человека, с помощью Его координируют образы, затемненные и ущербленные (животные), фиксируя те их моменты, когда и в них просвечивает человечность.
Искусству гипнотического убийства противостанет искусство воскрешения.
Интересно, что до последнего времени так называемое «светское» искусство уклонялось от такой задачи, как начертание образа Воскресителя и первенца из мертвых, образа Совершенного Человека. Воображение художников, можно сказать, избегало следовать за Агнцем под разными предлогами. Предлогом служила сперва благочестивая на вид боязнь замарать и исказить этот образ (он ведь образ воплощенного Бога!) прикосновением нечистой, «мирской» мысли и эмоции. В божественности Христа как бы тонула его человечность (монофизитский уклон*222). Когда же вера во Христа как Сына Божия была поколеблена гуманистическим просвещением, образ Его стал для многих только человеческим и тем как бы более близким и понятным. Однако и тут еще могли уклоняться от воспроизведения этого образа, оправдываясь боязнью прегрешить против исторической правды, поскольку данные истории о лице и жизни Этого Человека казались слишком обрывочными и спутанными.
Но вот, наконец, поколебалась и вера и в самое историческое существование Христа: силе книжнического скепсиса как бы удалось изгнать Его не только с неба, но и с земли, отнять не только божеское достоинство, но и человеческое звание. Однако странное дело: потускнел ли от того самый образ Сына Человеческого в воображении его отрицателей и гонителей?
Нимало: наоборот, лишь теперь Он впервые начинает по-настоящему приковывать к себе всеобщее пристальное внимание, заставляя всех «взглянуть на Того, Которого пронзили»*223.
Сойдя с неба и уйдя с земли, сошедши в ад, в преисподнюю, допущенный к существованию лишь в качестве мифа, порождения людской фантазии, Он именно здесь-то и совершает дело своей полной победы над небом и над землей.
В настоящее время у людей с развитым воображением (художников) совершенно отнята возможность оправдать свое прохождение мимо образа Христа разного рода «словесами лукавствия». Никто не сможет и не сумеет отрицать значимости Христа как художественного образа. С Ним, следовательно, необходимо как-то посчитаться, с Ним встретиться лицом к лицу обязан теперь каждый художник, претендующий на сколько-нибудь крупные задачи в своем искусстве.
Одно из двух: либо это не есть образ Совершенного Человека, и тогда художнику предстоит мудреная задача – начертить образ «другого», более «современного», более нас удовлетворяющего (но всякая подобная попытка роковым образом сведется к «начертанию зверя», обезьяночеловека); либо жизнь этого Человека есть подлинно идеальный образ человеческой жизни, вообще – «образ образов». В таком случае в него упирается путь каждого искусства.
Этим и только этим образом измерит сам себя до конца человек. Вот откуда вырастает необходимость в наше время для каждого художника сказать какое-то свое слово о Христе, к евангельским повествованиям Матфея, Марка, Луки, Иоанна прибавить рассказ о своей встрече с Тем, Кто к своим пришел, хотя свои Его не узнали. Всякий художник вынуждается ныне силою вещей стать Евангелистом.
Разбор ряда хотя бы литературных произведений в Европе и в России за последние десятилетия мог бы это с неопровержимостью удостоверить. Именно такое положение дел предвидел и приветствовал автор «Философии общего дела», ссылаясь на евангелие Иоанна, эту «лигургию, в которой уже нет вознесения, а даже поощряется продолжение бесконечного евангелия». («Суть же и ина-много-яже-сотвори Иисус яже аще бы по единому писана быша, ни самому, мню, всему миру вместити пишемых книг»*224.)
Конечно, наглядное воспроизведение Образа Воскресителя и Спасителя мира есть задача, требующая от художника особого напряжения духа, особой концентрации творческих сил. Можно утверждать, что в плане подобного задания резко колеблется то привычное, компромиссное, неустойчивое равновесие между сознанием и бессознательным, каким еще удовлетворяется художник на низших ступенях творчески преобразовательного акта. Здесь требуется более интимное проникновение обостренного, изощренного сознания в тайники и недра темной психики. Иначе говоря, здесь уже не обойтись без полного «вхождения ума в сердце»*225, без усвоения опыта подвижнического умного делания.
Подвиг искусства здесь встречается с искусством подвига, и в конечном счете только прочность этой встречи предопределит формы и нормы того, что мы называем религиозной организацией искусства, наметив исход из угрожающей катастрофической, «апокалиптической» эпохи и указуя пути гармонического объединения человечества. Стоящие на стеклянном море поют песнь Моисея, человека Божия (песнь исхода) и песнь Агнца. Художественное воспроизведение образа Сына Человеческого неизбежно переливается за грань, отделяющую (в аполлонического типа искусстве*226) воображение от воплощения. Образ этот всегда воплощается, а не только воображается: он становится в каждом, кто Его вкусил и принял, ядром внутренней жизни, стремящимся затем к соответствующему пересозданию и всей внешней органической и космической среды.
Из всего сказанного следует, что ни художественное, ни тем паче научное объединение человечества неосуществимо и просто непредставимо без некоторой священной цели, без центрального «Образа образов», без устремительного «во Имя». Жестоко, значит, ошибаются те, кто серьезно думает, будто возможно психически, практически возможно, для работников науки сначала сорганизоваться, сговориться о текущей работе, а потом уже на досуге наметить руководящие цели и пути дальнейшего.
Все факты опыта уполномочивают на утверждение обратного характера, которое и будет ответом на второй из вышепоставленных вопросов Федорова.
То есть: хотя наука, несомненно, в наше время доросла до необходимости иметь центр и органы повсеместно, но такая централизованная организация не в состоянии будет ни сформироваться, ни удержаться без священной цели воскрешения.
Принятие или отвержение этой цели – такова дилемма, представшая как христианской, так равно и не христианской половине человечества в XX в. христианской эры. Эта безотлагательная необходимость немедленного выбора есть самая характерная черта того острого кризиса сознания и кризиса жизни, в полосе которого мы в данное время находимся. Окажется ли он в конце концов кризисом роста или же предвестьем окончательного распада и гибели – это должны выяснить ближайшие десятилетия.
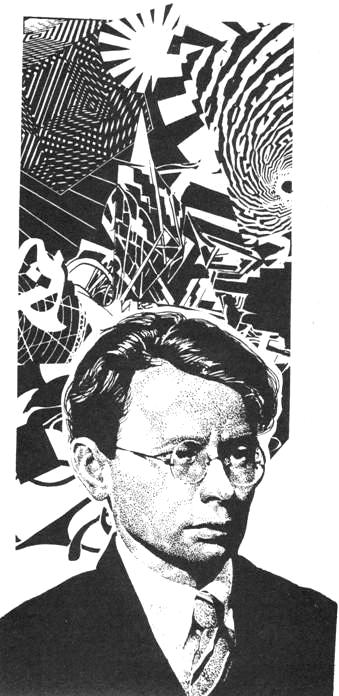 В истории философии, наряду с типом мыслителя-первопроходца, открывателя новых, еще неведомых путей в мысли и духе, присутствует иной тип, вероятно незаслуженно оставляемый в тени. Это тип последователя, продолжателя. Для него, бескорыстного подвижника, приверженца того или иного учения, важно не столько «приходить с новым словом» (Достоевский), не столько высечь собственный завет на скрижалях истории и культуры, сколько отыскать в множественности «философий» то «последнее слово», что верой и смыслом ляжет в душе. А собственное творчество становится, скорее, подвигом служения, проповеди и дальнейшего раскрытия того учения, которое принял он как «путь, истину и жизнь».
В истории философии, наряду с типом мыслителя-первопроходца, открывателя новых, еще неведомых путей в мысли и духе, присутствует иной тип, вероятно незаслуженно оставляемый в тени. Это тип последователя, продолжателя. Для него, бескорыстного подвижника, приверженца того или иного учения, важно не столько «приходить с новым словом» (Достоевский), не столько высечь собственный завет на скрижалях истории и культуры, сколько отыскать в множественности «философий» то «последнее слово», что верой и смыслом ляжет в душе. А собственное творчество становится, скорее, подвигом служения, проповеди и дальнейшего раскрытия того учения, которое принял он как «путь, истину и жизнь».
Именно таким служением стали судьба и творчество Н.А. Сетницкого философа, эстетика, талантливого поэта, последователя идей Н.Ф. Федорова. Он родился 12 декабря 1888 г. в г. Ольгополе Волынской губернии в семье служащего Александра Филипповича Сетницкого. Окончил классическую гимназию и в 1908 г. поступил в Петербургский университет на отделение восточных языков. Впрочем, через год из-за материальных трудностей в семье ему пришлось перевестись на факультет юридический.
В университетские годы в Николае Александровиче ярко обнаруживается стремление к целостности знания – черта, характерная для всех активно-эволюционных мыслителей. Помимо гуманитарных наук (истории философии, права, восточных языков) он прошел три семестра физико-математического факультета. Занимался политэкономией, делал доклады по теософии, проблеме религиозного сознания, интересовался психоанализом. Уже тогда основной темой его раздумий становится вопрос об идеале, о смысле исторического действия, о конечных целях его.
С 1913 г. он много времени отдает службе – экономистом и статистиком в различных учреждениях. Появляются и первые специальные статьи: экономических и статистических работ Николай Александрович за свою в общем-то недолгую и непростую жизнь написал более ста. Но вот провиденциальная встреча: в 1918 г. на одном из собраний одесского литературного кружка (а Н.А. Сетницкий с 1917 г. обосновался в Одессе) он знакомится с Александром Константиновичем Горским, а через него – с учением «общего дела». С этого момента для обоих начинается долгий период общения и дружбы, пропаганды и развития идей Н.Ф. Федорова. Содружество этих двух людей, возложивших на себя апостольский крест, было, наверное, самой яркой страницей в истории федоровского движения. Сетницкий и Горский написали несколько совместных работ и никогда не заботились о том, кто именно из двоих поставит в конце свое имя (кстати, и сам Федоров никогда не выпячивал собственного авторства, понимая, что в его учении выразились чаяния многих и многих безвестно ушедших, канувших в потоке времени). Они были как первохристиане, ибо несли слово о «всеобщем спасении», о долге памяти и воскрешения постреволюционной эпохе, что отвергла Бога, возложила на свои плечи прерогативу «страшного суда» и огненным, карающим мечом классовой ненависти рассекла мир на спасенный пролетариат и проклятых буржуев. В написанных и опубликованных в те годы книгах, брошюрах, статьях стремились они растолковать обезумевшему времени, кто наш истинный, «общий враг», направить мощь затеваемых преобразований в русло борьбы со смертью, «организации мировоздействия», разумного управления силами природы. Об этом пишет Горский в очерках «Н.Ф. Федоров и современность», на этом настаивает Сетницкий в брошюре «Капиталистический строй в изображении Н.Ф. Федорова», книгах «СССР, Китай, Япония» и «О конечном идеале». Установка обоих – деловая, активная; все нацелено на то, чтобы уже здесь, сейчас, не откладывая, искать приступы к «общему делу». Особенно это было характерно для Н.А. Сетницкого. Любая работа – экономиста ли, статистика – виделась ему как бы в перспективе «высшей цели», «конечного идеала». В 1922 г. в Одессе он публикует небольшую книжечку под названием «Статистика, литература и поэзия». Перед статистикой, наукой специальной и прикладной, ставит он, ни больше ни меньше, задачу собирания и сохранения памяти, сначала о всех деятелях культуры и искусства, вне зависимости от масштаба их творчества, а затем, в пределе, и обо всех когда-либо живших и ныне живущих, о каждой конкретной личности.
В течение десяти лет (с 1925 по 1935 г.) Николай Александрович работает в Экономическом бюро Китайско-восточной железной дороги в Харбине, несколько необычном, смешанном русско-китайском городке. В то время это уже не советская территория, но еще и не вполне заграница. Занимается проблемами торговли и экономики Маньчжурии, читает лекции на юридическом факультете. А по ночам пишет – философские статьи, стихи на библейские сюжеты, просто стихи, где снова и снова в каждой строчке бьется «пеплом Клааса» долг воскрешения.
В крошечной харбинской типографии всего за несколько лет ему удалось опубликовать очерки А. Горского о федоровском учении, совместную работу «Смертобожничество» (1926), ряд своих работ о Н.Ф. Федорове и главную свою книгу – «О конечном идеале» (1932). И все это на собственные средства. На собственные же средства он начал и переиздание 1 тома «Философии общего дела». А еще подготовил и издал в 1934 г. в Риге второй федоровский сборник – «Вселенское дело».
Как в свое время Федоров, Н.А. Сетницкий постоянно стремился увлечь известных тогда философов, писателей и ученых идеями борьбы со смертью, регуляции природы, подвигнуть одних на проповедь, других – на научные эксперименты, практическую деятельность. Писал Н.А. Бердяеву, Н.О. Лосскому, А.М. Горькому, посылал издаваемые им книги. Горький откликнулся тут же, ведь с учением Федорова был знаком давно и сердечно интересовался им. Но разве мог сделать что-нибудь реально даже он, сам – в тисках официального признания, в петле, в ловушке? Ведь это были уже 30-е гг., и тоталитарная машина стремительно набирала обороты, перемалывая чужие судьбы. Через несколько лет Горький будет окружен глухой стеной, фактически арестован в особняке Рябушинского. И Сетницкий, вернувшись из Харбина в неустроенность и зловещую пустоту московской жизни (да, зловещую, ибо многие близкие друзья томились в лагерях и ссылках), так и не сможет встретиться с «великим пролетарским писателем». Впрочем, сам Николай Александрович еще борется. Вместе с Горским, весной 1937 г. вернувшимся из ссылки, они начинают писать статью, надеясь пробить идеологизированные мозги и заматеревшие души, поистине, по слову Солженицына, бодаясь как теленок с дубом. Для Сетницкого это была уже последняя попытка. Вскоре он был арестован и расстрелян.
Близкие Н.А. Сетницкого говорили, что в случае с ним семена федоровской проповеди попали в свое время на добрую почву. Юношеское паломничество души в поисках идеала совершалось еще до знакомства с «Философией общего дела» вдоль того же русла, по тому же пути – пускай и путано, сбивчиво, – по которому десятилетиями ранее шел его учитель. Учение «легендарного библиотекаря», воспринятое и пережитое глубоко и творчески, дало Николаю Александровичу необходимую перспективу, выстроило перед ним ту нравственную систему координат, в которой отныне разворачивалась его аналитическая, стремящаяся к ясности формулировок, к предельной высказанности мысль. Приняв учение «общего дела» целиком, без колебаний и сомнений, Н.А. Сетницкий особенно отмечает и развивает ту его сторону, которая связана с активным пониманием христианства. Основой его философских построений становится осмысление истории в эсхатологической перспективе, в свете конечного идеала.
Свою книгу «О конечном идеале» (Харбин, 1932) он строит как оправдание истории, как оправдание человеческой деятельности, утверждает возможность и необходимость участия всего человечества в «восстановлении мира в то благолепие нетления, каким он был до падения» (Федоров). В главке, которую мы предлагаем вниманию читателя, ведется полемика с работой известного юриста и философа П.И. Новгородцева «Об общественном идеале». Новгородцев утверждает, что наши социальные предприятия не совместимы с христианским идеалом Царствия Божия, что абсолют в условиях нынешнего несовершенного мира в принципе невоплотим, ибо столь велика пропасть между идеалом и действительностью, что устраняется она лишь волей и усилием Божества, а никак не слабым и смутным человеческим действием. Идеал «конечного совершенства» не может быть, по мнению философа, поставлен «целью общественного развития», человечество на своем земном пути обречено довольствоваться либо «суррогатами» «всеобщего счастья», либо неким предельно расплывчатым императивом «бесконечного совершенствования», вечно стремиться и никогда не достигать (вот уж поистине танталовы муки!) – и так вплоть до последних сроков.
Н.А. Сетницкий – противник столь пессимистического взгляда на историю. Напротив, последняя видится ему как богочеловеческий процесс преображения мира и человека, конечным пунктом которого станет воссоединение отпадшего творения с Творцом в славе и сиянии Небесного Иерусалима. Смысл истории – воплощение идеала, утверждение Царствия Божия. В своей полемике с П.И. Новгородцевым Н.А. Сетницкий прибегает к особому методу: опровергает ученого с точки зрения самой природы идеала – проективной, требующей своего осуществления в реальности.
Воплощение – центральный, определяющий момент в процессе становления, раскрытия идеала, иначе он вырождается в утопию, фантастическую мечту, бессильную в борьбе со злом и не умножающую добра. Это тот необходимый мост между идеалом и действительностью, прочное установление которого обеспечит истинный прогресс мира и человека, реальное их возрастание «в духе и истине». Неужели, спрашивает мыслитель, образ высшего, абсолютного блага полностью трансцендентен миру сему, пребывает в человечестве эдаким генералом на свадьбе, составляет предмет лишь созерцания, умозрения, религиозного чаяния, не помышляющего участвовать в его приближении? Неужели не излучается он в этот темный, падший, отчаявшийся мир, не возжигает в нем ответный порыв восхождения? Всякое же утверждение о непреодолимой для слабых человеческих сил пропасти между действительностью и идеалом способствует, по мнению Сетницкого, лишь производству всякого рода «дробных идеалов», сконструированных, так сказать, по мерке человека, а не по образу и подобию абсолюта. Именно такие «суррогаты» всеобщего счастья и заводили, считает мыслитель, историю в кровавые реки и кромешные тупики. И выход здесь может быть только один: утвердить «целостный идеал» Царствия Божия, предполагающий «полноту счастья» и «всеобщность спасения», конечной целью общественного развития, и – если возможно – дорастить до него все прочие «дробные идеалы», основавшие себя на компромиссах и всякого рода классовых принципах.
В постановке, утверждении, осуществлении такого идеала участвуют, по мысли Сетницкого, все силы и способности человеческого духа: наука, искусство, религиозное творчество. В книге «О конечном идеале», а также в небольшой брошюре «Заметки об искусстве», вышедшей в Харбине в 1933 г., Сетницкий развивает представление об образе – этом главном инструменте искусства – как о начале, которое по своему высшему заданию призвано активно влиять на действительность, формировать. пресуществлять ее. Образ в своем идеальном качестве становится «образцом действия» для человеческого рода. Вслед за Федоровым и Горским Сетницкий обосновывает необходимость перехода к литургическому, воскресительному искусству, образами-образцами которого станут «Небесный Иерусалим» и Христос, «идеал человека во плоти» (Достоевский), т.е. образы благого, чаемого порядка бытия и того «тела духовного», в которое предстоит облечься человеку.
Поразительна и крайне интересна книга П. Новгородцева «Об общественном идеале»*228. Поразительна она не своими бесспорными достоинствами: вдумчивой проработкой обильного материала и тонкой оценкой современных учений об идеале. Примечательна в этой книге та судьба, которая постигает всякого исследователя, пытающегося дать критику «утопий социализма и анархизма». Практически острие этой книги направлено в эту сторону. Современное положение, при котором эти доктрины из чисто теоретических, абстрактных построений стали превращаться в жизненно осуществляемые и практически воплощаемые факты действительности, создало книге П. Новгородцева особую популярность, безусловно ею заслуженную. Но за той ценностью, которую она представляет, как критическая работа, как разбор тех «глубоких внутренних противоречий», присущих рассматриваемым ею учениям, всё же совершенно не видно в ней ничего такого, что бы могло в какой-либо мере, хоть мало-мальски основательно поколебать то положение, которое в сознании современного человека заняли эти идеалы. Можно утверждать, что, несмотря ни на какие кризисы, несмотря на жесточайшие противоречия и еще более жестокую практику, сопровождающую попытки их воплощения, эти идеалы остаются единственными господствующими в современном сознании европейца. Самое отрицание их обычно не является отрицанием принципиальным. Отрицается не значение этих идеалов, а лишь своевременность и уместность их осуществления в данных конкретных условиях. Их воплощение относится на будущее время. Можно утверждать, что в современном сознании европейского человечества в конце второго тысячелетия христианской эры или присутствует в той или иной форме самый идеал, который П. Новгородцев называет «верой в возможность земного рая», или отсутствует всякий общественный идеал, открывая место той или иной идеологии прикрытых или откровенных, индивидуальных или коллективных эгоизмов61.
Какова же позиция в этом вопросе нашего автора? Если признать вместе с П. Новгородцевым, что на наших глазах происходит решительное крушение идеи, в которой «прежняя общественная философия видела свой высший предел», – «веры в возможность земного рая», то нам придется признать, что крушение это обрекает общественную философию на искание какого-то нового или, вообще говоря, иного ориентирующего начала. Автор книги «Об общественном идеале» отчетливо понимает, что на место того, что, по его словам, рушится, необходимо поставить какое-то иное начало, выдвинуть новый, иной идеал. Каково же это новое построение, которое должно сменить то, чем вдохновлялась общественная философия двух истекших столетий? Существо «веры», присущей выдающимся мыслителям XVIII и XIX вв. и одинаковой при всей разнице конкретных построений и разрешений общественного вопроса со стороны каждого из нас в отдельности, формулируется П. Новгородцевым следующим образом. Вера в «земной рай» сводится в конце концов к убеждению:
1. «Что человечество, по крайней мере в избранной своей части, приближается к заключительной и блаженной поре своего существования».
2. «И что есть «решительное слово», известна «спасительная истина, которая приведет людей к этому высшему и последнему пределу истории».
Конец XIX в. окончательно подрывает основания этой веры. Человечество не только не приблизилось к блаженнейшей эпохе своего существования, но, наоборот, находится дальше от нее, чем это можно думать. Даже самый вопрос о возможности достижения подобной блаженной поры стоит под сомнением, а вопрос о разрешительных словах представляется не только не решенным для современности, но даже вообще снятым с очереди.
Эту отрицательную позицию П. Новгородцев формулирует следующим образом:
«Надо отказаться от мысли найти такое разрешительное слово, которое откроет абсолютную форму жизни и укажет средство осуществления земного рая».
«Надо отказаться от надежды в близком или отдаленном будущем достигнуть той блаженной поры, которая могла бы явиться счастливым эпилогом пережитой ранее драмы, последней стадией и заключительным периодом истории».
В этой формулировке мы имеем дело не с временными и условными отсрочками осуществления этого идеала, а с безусловным отрицанием самой возможности найти «абсолютную форму жизни». Базируясь на этом отрицании, автор книги «Об общественном идеале» делает попытку найти иную формулу, иное слово, указывающее на точку приложения общественной энергии, новый общественный идеал. Он признает неизбежной «замену идеи конечного совершенства началом бесконечного совершенствования». Такая замена диктуется ему следующими соображениями. Для него несомненно, что «идея достигнутого земного совершенства никак не может быть согласована с основными представлениями моральной философии», которая сориентируется на начало бесконечного совершенствования. При этом самый идеал совершенства мыслится им как «неизменный идеал», самая постановка которого предполагает установление полной гармонии между личностью и обществом. Но едва ли не самым существенным для П. Новгородцева аргументом в пользу отрицания идеала «земного рая» является утверждение неизбежной антиномии между личностью и обществом, и если идеал «земного рая» ориентируется на общество, то противопоставленный ему идеал «бесконечного совершенствования» строится на утверждении личности как основной идеи, по которой равняются все остальные. С этой точки зрения вполне правомерен его вывод: «не вера в земной рай, который оказывается по существу недостижимым, а вера в человеческое действие и нравственное долженствование – вот что ставится здесь перед нами». Этот переход к вопросу о действии является вполне естественным, поскольку всякий идеал есть некоторая норма, и, следовательно, конечной инстанцией, характеризующей его и могущей служить почвой для его оценки, является вопрос о действии. Но и с этой точки зрения выставленный идеал теряет свои очертания и как-то расплывается, что отлично чувствует автор. «Я знаю, – говорит он, – это может показаться безбрежным в неопределенности, и вот почему я говорю: здесь сломан старый мост, сокрушен старый берег, впереди – горизонт бесконечности». Новая философия, подобно новой астрономии, открывает бесконечные просторы и рвет «узкий кругозор, ведущий свое начало от хилиастических мечтаний средневековья».
Проблема идеала есть проблема действия и действительности, и с этой точки зрения естественно оценить оба стоящие перед нами идеала. В отношении к наличной действительности идеал есть нечто не наличное, не осуществленное и реально не присутствующее. Действительность идеала есть не что иное, как воплощение и осуществление его. На вопрос, что выше и больше, идеал в представлении или в осуществлении, несомненно, следует ответить, что в осуществлении. Отношение между идеалом в представлении и действительностью идеала таково, как между проектом здания и осуществленным, построенным зданием. Сопоставляя со сказанным оба указанных идеала, мы можем сказать, что «вера в земной рай» предполагает (чисто формально) возможность для человеческого действия воплощать и осуществлять свои представления. Как построенное здание выше, прекраснее и совершеннее той условной схемы, какою является проект его, так и осуществленный «земной рай» представляет высшее совершенство, по сравнению с образами и представлениями его. Совершенство в этом смысле есть то, что совершено́, а всякое совершение живее, полнее и совершеннее своего образа и проекта. Действие и его результат выше и значительнее мысли о нем. Таким образом, всякий идеал должен мыслиться как некоторый конкретный результат деятельности, как предел какого-то действия. Действительность идеала есть конкретный предел действия, есть его действенное воплощение. С этой точки зрения идеал «рая на земле» (формально) безукоризнен. Его предпосылкой является убеждение, что человеческое действие может усовершать мысль, что человек может достичь, воплотить совершенство в действительности.
Какое же отличие выдвинутого П. Новгородцевым идеала с этой точки зрения? Как мыслится им эта «вера в человеческое действие» в идеале «бесконечного совершенствования» личности? Для него теряет смысл вопрос о «конечной цели». Для него «главное – не переставать верить, хотеть и стремиться». Но для действия и деятельности цель есть необходимый элемент акта, и цель не в неопределенной и отвлеченной формулировке, а в смысле конкретного предела, т.е. определенной задачи, обусловленной теми возможностйми, которые даны как точки отправления. Уничтожение «конечной цели» обессмысливает действие. При отсутствии ее действие становится бессмысленным и «верить, хотеть и стремиться» становится незачем и ни к чему. Нет никакого «во имя», ради которого совершается эта деятельность. Это обессмысливание идеала ясно автору, и для того, чтобы выйти из этого состояния неопределенности, к которому приводит выдвинутый им идеал, он выдвигает момент цели и целеустремленности этого действия, но не в форме определенной цели, а в форме смены целей. «Неустанный труд, как долг постоянного стремления к вечно усложняющейся цели, – вот что, с этой точки зрения, должно быть задачей общественного прогресса». Вечное усложнение целей и постоянное стремление к этой усложняющейся цели – что собственно значит это с точки зрения действия и действующего? Можно сказать, что действие подобного рода не есть и не может считаться действием воплощения и осуществления. Цель, ускользающая и скрывающаяся в момент приближения к ней, по существу подменяется. Можно сказать, что утверждение подобного идеала равносильно утверждению бессилия всякой деятельности. Деятельность не в силах осуществить то, что видится в идеале, что считается целью. Приближение к ней связано с отдалением объекта, усложнением цели. Образ жаждущего Тантала и бесплодно катящего камень Сизифа можно было бы вполне приравнять идеалу, выдвигаемому П. Новгородцевым. Но при сравнении следует сказать, что эти пытки древности, пытающейся в таких образах охарактеризовать дурную бесконечность, заложенную в бесконечном стремлении при невозможности достичь, оказываются весьма легки и просты по сравнению с тем, что выдвигает проф. П. Новгородцев. Этот процесс, это «главное – не переставать верить, хотеть и стремиться» связано им с бесконечным развитием личности. И вот, чтобы сопоставить выдвигаемый им новый идеал с сизифовой работой и пыткой Тантала, необходимо, чтобы миф наделял Тантала и Сизифа новыми силами, свойствами и способностями, развивающимися у них в результате упорного и настойчивого труда и испытаний. Тантал развивает в себе необычайную тонкость восприятия и все большую ловкость в хватании фруктов, растущих у него над головой, и нагибании к воде, находящейся у его ног, а Сизиф, развивая свои силы, оказывается в состоянии все быстрее вкатывать все бо́льшую и бо́лыпую тяжесть. Таков идеал современности, переведенный на язык мифа древности.
Но помимо того, что действие человеческое с рассматриваемой точки зрения оказывается бессильным, что осуществление и воплощение мысли и образа оказывается неосуществимым, в этом построении самая человеческая мысль признается по самой своей природе бессильной и слабой. Поскольку приходится говорить о все усложняющейся цели, о множестве целей, сменяющих одна другую, по мере приближения к тем, которые видимы и понятны, постольку необходимо признать, что человеческая мысль не может охватить совокупности этих целей, наметить в них строй и порядок и остановиться на главной и центральной. Открывающееся множество целей, необъединенных и возникающих в процессе действия, осуществления и воплощения, свидетельствует не о чем ином, как о слабости и дефектности руководящего действием разума. Выдвижение подобного идеала равносильно случаю, когда архитектор, выдвигающий сооружение, оказался бы в положении, при котором ему постоянно пришлось бы менять планы постройки. Бесспорно, здесь имело бы место бесконечное совершенствование архитектора, но построенное, построяемое, достраиваемое и перестраиваемое им здание было бы далеко от законченного совершенства. Несомненно и то, что, осматривая это сооружение, приходилось бы неоднократно удивляться ходу мыслей архитектора, не говоря уже о том, что вряд ли подобная постройка могла бы быть признана воздвигнутой в полном соответствии со сметами и средствами. Растрата сил и средств здесь была бы неизбежна и неотвратима.
Все сказанное позволяет подвести некоторые предварительные итоги. Рассматривая два идеала: идеал конечного совершенства, с одной стороны, и идеал бесконечного совершенствования, с другой, мы приходим к выводу, что оба они зиждутся на некоторых предпосылках, определяющих существо человеческого действия и человеческой мысли. Идеал «земного рая» предполагает за человеческой мыслью способность представить, образовать и определить образ конечного совершенства. Человеческая мысль оказывается здесь силой, способной выйти из пределов и рамок обычного и жизненно практического определения отдельных и многообразных целей разной высоты и степени достижения и сосредоточиться на высочайшей цели, идеале конечного совершенства. Другими словами, за человеческой мыслью признается способность создать образ и план совершенной жизни, деятельности и существования. Равным образом и человеческая деятельность при допущении идеала «земного рая» должна быть мощью и силой, преобразующей мир, осуществляющей и воплощающей определенный конкретный план и образ законченного совершенства, ведущего общественное, человеческое и космическое домостроительство. Идеал «земного рая» органически связан с утверждением мощи и силы человеческого действия, способного воплотить совершенство и достичь его. Обратно, идеал «бесконечного совершенствования» связан с обратными утверждениями в отношении мысли и действия. Человеческая мысль при осуществлении этого идеала должна расточаться в деле построения множества усложняющихся целей. Она не в силах создать единый образ, их объемлющий и координирующий в одном, создающий единую точку приложения сил. Человеческая мысль, по самой природе своей, раздроблена и не способна на создание единого и целостного образа, единой цели, единого плана, объединяющего и направляющего действие. Подобно мысли, и человеческое действие при идеале бесконечного совершенствования бессильно, слабо и недостаточно. При всех своих улучшениях, при достижении максимально возможного развития (а развитие мощи и силы человека есть одна из сторон, если не главная, в развитии личности, на которое ориентируется идеал бесконечного совершенствования) он всегда будет стоять перед удаляющейся в бесконечность целью, перед невозможностью полностью воплотить и осуществить предносящийся ему образ. Эта полярность обоих рассматриваемых идеалов заложена в самой основе их. Идеал конечного совершенства сам по себе уже предполагает, что в действительности в той или иной форме заложена потенция его осуществления, есть мощь и сила, способная его реализовать. Наоборот, идеал бесконечного совершенствования исходит из мысли об отсутствии в действительности подобного рода потенции. Мысль о потенциальном могуществе человека и признание его принципиального бессилия – таковы основы, на которых строятся оба рассматриваемых идеала, и нам представляется, что только в случае наличности определенного суждения по этому вопросу возможна надлежащая критика того или другого.
Сказанного было бы достаточно для суждения об «идеале бесконечного совершенствования», если бы П. Новгородцев ограничился в своем сопоставлении обоих идеалов той характеристикой, которую он дает этому идеалу как последнему слову современной общественной философии. Можно было бы только признать, что в этой области построения столь сильного и интересного критика-мыслителя недостаточно продуманы и требуют основательной ревизии. Но задача его в рассматриваемом сочинении «Об общественном идеале» не столько апологетическая, утверждение идеала «бесконечного совершенствования», сколько критическая, направленная к выяснению крушения «веры в возможность земного рая». С этой' точки зрения, идеал «бесконечного совершенствования» есть не только самодовлеющее построение нашего автора, но и критическое орудие для ниспровержения противоположного идеала. С этой точки зрения противоречия, лежащие в основе его, не столь уже и существенны. Важнейшим и центральным является вопрос не столько о дефектах выдвигаемого идеала, сколько о позиции, которую занимает автор – борец против анархических и социалистических идеалов. Сам по себе выдвинутый им идеал не имеет конечной цели. «Где же здесь конечная цель, где пристань, где твердый берег? В земных человеческих делах их нет и быть не может». Он знает, что его построение «может показаться безбрежным в своей неопределенности», но при всем том он все же настаивает на том, что «общественный идеал только в бесконечном развитии находит свое выражение». Каково же в таком случае это устремление? Куда ведет этот идеал и какие достижения он сулит? «На этом пути мы не услышим заманчивых обещаний, но и не узнаем горьких разочарований. Это путь неустанного труда и бесконечного стремления – вперед, всегда вперед, к высшей цели».
Мы установили предпосылки, на которых зиждутся оба рассматриваемые нами идеала. Перед нами задача – проследить, куда они увлекают человечество. Пусть наш автор отводит вопрос о «конечной цели», но через шесть страниц своей книги он призывает нас идти «к высшей цели». Правда, прямо он не указывает этой «высшей цели», но это тем более заставляет нас остановиться на выяснении того, что он под этим понимает. Выяснить это можно по его суждениям об идеале конечного совершенства в связи с рассмотрением вопроса об абсолютном идеале.
Проблема абсолютного идеала как философская проблема есть основа общественной философии. Утопические построения, в своем стремлении к абсолютному идеалу, по словам П. Новгородцева, «исходили в этом из правильного практического стремления», хотя и допускали здесь ряд коренных ошибок. Каковы же эти ошибки? Первое указание на такую основоположную ошибку мы находим в таких словах: «Рисуя светлые образы идеальной гармонии, они хотели видеть их воплощенными в жизни...» Центр тяжести здесь лежит в вопросе о воплощении. Очевидно, ошибка заключается в стремлении воплотить эти образы. Попытка облечь их плотью или просто подобное желание мыслится дефектом; «воплощение» и еще «светлых образов», и еще «в жизни» – все это моменты, которые вызывают сомнение у нашего автора. Абсолютное не воплотимо – так должен был бы формулировать он свое утверждение, но его внимание фиксируется только на том обстоятельстве, что подобная попытка воплощения разбивалась в тот момент, когда речь заходила о путях воплощения. Продумывая эти пути, вопросы о средствах, ведущих к тому, чтобы утвердить абсолютную правду и совершить величайшую из реформ, мы выходим «за пределы философских решений». Оказывается, что этот ожидаемый переход имеет в виду «коренное и всецелое преобразование существующих условий», «после которого возврат назад уже невозможен». Итак, главный проект и основная ошибка заключаются в том, что требуется «коренное и всецелое преобразование». Представляется неправильным такое положение, при котором невозможен «возврат назад». Спрашивается: что это за «возврат назад»? Если выше речь шла о совершенном воплощении, то «назад» будет возврат к «разво-площению», назад от «светлых образов», ставших действительностью, к тьме и мраку распада и тленья и от «жизни» назад ведет один путь в смерть. Иначе невозможно понимать и мыслить те перспективы, которые мыслятся П. Новгородцевым утраченными бесповоротно при воплощении и осуществлении абсолютного идеала. Его пугает такое состояние, которое «не столько завершает, сколько прерывает историю, прерывает трудный и сложный процесс культуры, с ее страстями, борьбой, трудом, изменчивым счастьем, случайными поворотами судьбы». Такая постановка переносит вопрос об идеале в плоскость «эсхатологии», учения о «последних вещах». «Вдумываясь в понятие абсолютно осуществленного идеала, мы должны сказать, – утверждает он, – что оно становится ясным лишь тогда, когда сочетается с верой в чудо всеобщего преображения...» «Это язык религиозного сознания, которое верит в чудеса и тайны». Здесь оказывается, что «невозможно усмотреть различие между эсхатологическими учениями о будущем царстве благодати и социологическими представлениями о земном рае». Все эти обстоятельства служат для П. Новгородцева весьма серьезными основаниями для того, чтобы отвергнуть этот идеал конечного совершенства, но полное и последовательное отвержение его вряд ли облегчит оборону занимаемой им позиции. Ведь идеал «бесконечного совершенствования», по его собственному признанию, может казаться «безбрежным в своей неопределенности». Но и помимо этой неопределенности (а ведь задача заключается именно в том, чтобы его определить) он оказывается лишенным «конечной цели» и в этом отношении бесцельным и бессмысленным. Неприемлемый вследствие школьно-философской трактовки вопроса о воплощении абсолютного, абсолютный идеал всё же оказывается в рассматриваемом нами случае необходимым П.И. Новгородцеву, для того чтобы подпереть и хоть как-нибудь осмыслить расползающийся в дурной бесконечности идеал вечного совершенствования. Конечно, абсолютный идеал ему нельзя принять с той его стороны, с которой он требует своего воплощения. «Признавая необходимым понятие абсолютного идеала в качестве исходного и руководящего начала общественной философии (формулирует свою точку зрения автор), мы вместе с тем должны признать, что мыслить этот идеал всецело в условиях обычной действительности ошибочно и ложно». И далее: «...если общественная философия не может утратить мысли о безусловном идеале как о необходимой перспективе для своих построений, то, с другой стороны, она не может ни заполнить этот идеал конкретным содержанием, ни изобразить переход к нему из мира конечных и условных явлений». Иначе говоря, «общественная философия должна указать путь к высшему совершенству, но определить этот путь она может лишь общими и отвлеченными чертами». Таковы характеристики роли, которая отводится абсолютному идеалу в общественной философии. Выше мы назвали книгу «Об общественном идеале» поразительной, и одной из поражающих ее черт является именно то, что мы наблюдаем при трактовке автором проблемы абсолютного идеала. Удивительно то, как столь ответственное положение, как характеристика значения центральной цели и точки приложения усилий человечества, оказывается покрыто словами, скрывающими смыслы заключающихся в них мыслей. Понятие идеала ... «необходимо»... но мыслить его осуществимым... «ошибочно и ложно». Что скрывается за этими словами, одновременно признающими и отрицающими? Только одно. Они значат, что идеал этот не есть и не может быть чем-то действительным. Нет надобности в действительном идеале. Если человечеству необходим какой-либо идеал, то он может быть только мнимым идеалом. Но если продолжить вопрос и спросить, зачем вообще идеал, если он нечто только мнимое, если он только мысль, которая обречена на то, чтобы никогда не стать действительностью, зачем эта иллюзия, то за всеми основаниями, которые могут быть приведены в его защиту, реальным и основательным будет только одно: мнимый идеал необходим только как приманка, как иллюзия, обольщающая сознание, возбуждающая и стимулирующая действие. Идеал, мнимый и иллюзорный по существу, все же представляется необходимым для того, чтобы обеспечить действие и деятельность если не тех, которые поняли его пустоту, то хотя бы тех, которые не могут заметить ее. Если в начале своего рассуждения рассматриваемый нами автор не высказывал тех предпосылок, которые лежат в основании признаваемого им идеала, то здесь их необходимо обнаружить: «осуществление абсолютного идеала... лежит вне человеческой мощи и вне философского предвидения». То есть те самые предпосылки, которые нами отмечены выше как лежащие в основе попыток обосновать идеал «бесконечного совершенствования», признаются П. Новгородцевым, когда ему приходится указать на основания, которые заставляют его отвергнуть самую мысль о возможности осуществления абсолютного идеала. «Вне человеческой мощи» это значит, что человек и его действие бессильны, что они даже потенциально не имеют мощи, способной преобразовывать окружающую среду в желаемом направлении. «Вне философского предвидения» это значит, что мысль бессильна вместить идеал совершенства, что она может лишь блуждать по путям и перепутьям, расточаясь по множеству влекущих целей, но не в силах конкретно определить последнюю, крайнюю из них и указать надлежащий путь к ней. Но если так, если сам автор видит лежащие в основе его построения предпосылки, то ему самому должно быть ясно, что без конкретного определения тех пределов, в которых действительна человеческая мощь и в которых возможно философское предвидение, ничего нельзя построить в области вопроса об идеале. Если не сделать этого, то его собственная позиция, которую он мыслит безбрежной, может оказаться столь ограниченной, что с нее нельзя давать боя. Ведь попытки отойти от ограниченных оснований, на которых он стоит (ограничение мощи человека и ограничение его мысли), и стремление в бесконечность в основе своей оказываются не менее противоречивыми, чем те социалистические и анархические идеалы, которые он собирается критиковать и противоречивость которых он имеет в виду обнаружить. Не может спасти здесь, конечно, и попытка разъяснить понятие «бесконечного». «Под бесконечностью здесь мы разумеем (говорит он) не беспрерывность развития, а безмерность задания». Эта замена лишь терминологическая, и все те вопросы, которые можно отнести к понятиям бесконечности и беспрерывности, должны быть отнесены и к безмерности, которая в конце концов окажется не чем иным, как только другим словесным одеянием того же содержания, которое вкладывается нами в слово «бесконечность».
Не спасает занимаемую позицию и попытка придать идеалу бесконечного совершенствования и положительную основу. Эта последняя видится П. Новгородцеву в двух основополагающих моментах: в личности и нравственности. «Личность представляет ту последнюю нравственную основу, которая прежде всего должна быть охраняема в каждом поколении и в каждую эпоху, как источник и цель прогресса, как образ и путь осуществления абсолютного идеала».
Но если так, то позволительно спросить: в каком же отношении человеческая личность и нравственная основа прогресса находится к действию и мысли? В каком отношении возможно развитие и бесконечное совершенствование личности? Усиление мощи и стремление к такому усилению ее, входит ли оно в задачу «бесконечного совершенствования»? Сочетается ли и как с нравственным значением лиц доведение до полноты их мыслительной мощи хотя бы до того, чтобы произвести относительно простую задачу определения конечного идеала, вместо многих и бесконечно ускользающих по мере приближения к ним целей? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы увидеть, что при указанных выше предпосылках из создавшегося положения не выйти. Попытка найти какие-то выходы приведет лишь к противоречиям или окажется не чем иным, как способом при помощи словесных, недостаточно точных формулировок связать концы с концами.
Попытка что-то сделать, осуществить и практическая невозможность (ограниченность мощи) достичь результата ведут к раздвоению и трагизму. Сознание невозможности и в то же время бесплодные попытки осуществить возможны лишь при господстве трагического умонастроения. Бесплодное стремление с открытыми глазами навстречу своей гибели трагично, и этот трагизм отмечает П. Новгородцев, выражая это следующими словами: «Но в этом бесконечном, неутолимом стремлении заключается также трагизм нравственного сознания: в нем всегда остается раздвоенность между безусловным идеалом и временным осуществлением». Невозможность преодолеть это раздвоение личности и есть результат того идеала, который характеризуется как идеал «бесконечного совершенствования» личности.
Настоящий затянувшийся экскурс приводит нас к следующим положениям. Всякая попытка критиковать утопии земного рая, и в частности социалистические и анархические идеалы, не может быть осуществлена удовлетворительно на почве отрицания тех предпосылок, которые лежат в их основе. Все противоречия этих построений и дефекты осуществления не колеблют самих этих идеалов, ибо идеал не доказуется, а выбирается. Критиковать здесь значит выбирать, а выбирать можно тогда, когда перед вами несколько одноприродных удовлетворяющих заданью предметов. Голодный будет выбирать между хлебом, мясом и плодами, строитель – между камнем и металлом, но производить выбор между камнем и хлебом невозможно – он предрешен заданием выбирающего. С этой стороны критика идеалов есть нечто вполне определенное. Идеал по самому смыслу есть крайнее, последнее и величайшее задание, к которому стремится человечество. С этой точки зрения всякий идеал эсхатологичен (εσχατοσ и значит «крайний, последний, величайший»). Равным образом он, как всякое задание – задача, конкретен, т.е. требует определенного пути осуществления – однозначного решения, в зависимости от материала, с которым приходится оперировать и от которого деятель вынужден отправляться при попытке решения задачи.
С этой точки зрения идеал «конечного совершенства» и идеал «бесконечного совершенствования» или несоизмеримы (как хлеб и камень), или второй неправильно формулирован и за его формулировкой скрывается какой-то иной идеал, какая-то последняя, конечная, последняя крайняя и высочайшая цель, быть может не высказываемая ясно, но подразумеваемая ее автором. «Бесконечное совершенствование» не есть самый идеал, а может быть признано, в зависимости от тех или иных предпосылок, путем к тому или иному идеалу. Идеалу же «конечного совершенствования», т. е, идеалу полноты и всецелой жизни, осуществленного и осуществляемого жизнетворчества и движенья, должно быть противопоставлено не бесконечное совершенствование, а совершенный конец, т.е. прекращение всякого движения, погружение в первоначальное и окончательное ничто, совершенная и последняя смерть, нирваническая или катастрофическая, это уже безразлично. «Бесконечное совершенствование» при предпосылке мощи человеческой мысли и действия будет осуществляться в направлении роста жизненных и жизнетворческих, созидательно восстановительных сил человечества, ведущих его к осуществлению «конечного совершенства». То же «бесконечное совершенствование» при предпосылке ограниченности человеческой воли и интеллекта поведет на путь беспрерывного, неудовлетворенного, трагического раздвоения, распада, утраты и растраты сил и, завершаясь отчаянием, сознанием невозможности выйти из основных противоречий, бессильное вырваться из соблазнительных и иллюзорных антиномий, приведет к «совершенному концу», сделав его желанным и единственно достойным для потерявшего смысл существования человечества.
Итак, исходная позиция, с которой П. Новгородцев начинает свое наступление на идеологию законченного совершенства, на утопии «земного рая», за которым стоят такие имена, как Руссо*229, Кант*230 и Гегель*231, Конт*232, Спенсер*233 и Маркс*234, не только не выяснена им, но даже скрыта. Вместо нее выставлено положение, которое само по себе необходимо, как путь к идеалу, но даже как путь оно не достаточно. Чтобы подпереть это свое построение и создать ему видимость идеала, наш автор должен подпирать его практическое значение нравственным законом, а при доводах о необходимости для человечества осуществления абсолютного идеала и совершенного воплощения его отсылать к религии, в то же время выгораживая идеал бесконечного совершенствования от «религиозной эсхатологии», «от учения о последних вещах». Но религиозное сознание не есть нечто обязательное для всех. Оно приемлемо лишь для верующих (т.е. желающих и осуществляющих). Для тех же, кто не в силах принять и взять на себя выполнение религиозных обетований, не остается ничего, кроме трагической раздвоенности и отвлеченного стремления к достижению нравственного совершенства и выполнения нравственного закона.
После всей защитной аргументации П. Новгородцев вынужден все же прийти к весьма пессимистическим формулировкам. «Понятый в этом смысле, идеал нравственного развития может показаться отвлеченным и бессодержательным». Но это именно так и есть. Он не только кажется таким, но он именно так и строится самим автором, и «отвлеченность» и «бессодержательность» (т.е. отсутствие конкретного содержания) являются его неотъемлемыми чертами, выдвигаемыми самим автором, как конституитивные его определения. Странным поэтому представляется риторический вопрос автора: «Стремиться к вечно удаляющейся и никогда вполне не достижимой цели не значит ли гоняться за призраками и тенями?» Иного ответа, кроме утвердительного, после всего сказанного по этому поводу автором и быть не может. Он и сам подтверждает, что это так и есть, отвечая на приведенный вопрос: «Но таково свойство идеала, что, будучи беспредельным и бесконечным, он остается тем не менее реальным и практическим в качестве движущего мотива человеческой жизни». Другими словами, «призраки и тени» являются реальными двигателями человечества. Это свидетельствует лишь о слабости человеческого разума и сознания, хотя и не ослабляет реальности получающихся здесь результатов. «И не одно стремление к вечно удаляющейся цели представляет нравственное действие, но и осуществление нравственного закона». То есть не только стремление к «призракам и теням», но и осуществление их характерно для выдвинутой автором опоры идеала, которую он видит в нравственном законе. Но ведь этот последний сам в свете иллюзорного идеала превращается в иллюзию и «фантазму», правда не теряющую практического значения и реальной жизненности, но и ничего больше. Этот идеал ничем существенным не отличается от ригористических этических построений, начиная от Эпиктета, кончая Кантом и Фихте*235. Он не спасает, не преображает и даже не преобразует действительности, ибо по самой своей природе он может увлечь лишь немногих, а большинство, поставленное перед дилеммой «пить – умереть и не пить – умереть», предпочтет, конечно, пить, и не только пить, но проделывать многое иное, что не входит в сферу указуемого нравственным законом. «Осуществление нравственного закона» как идеала бесконечного совершенствования станет под весьма большое сомнение. Единственная возможность практически чего-нибудь достичь на таком пути – это пойти на такое разделение человечества, при котором меньшинство посвященных, знающих и видящих всю иллюзорность и призрачность идеальных стремлений, берет на себя всю ответственность по руководству большинством. Такое положение возможно тогда, когда этому большинству закрыт или крайне затруднен путь к познанию существа идеалов, целей и задач, к которым направляется его деятельность, когда на место их действительной иллюзорности утверждается на основе авторитета или иным образом (путем обучения, тренировки, дрессуры, аскезы и т.п.) фиктивная, но социально общепризнанная реальность. Единственная возможность чего-нибудь достичь на таком пути осуществления нравственного закона ведет к провозглашению идеала «Великого Инквизитора», к созданию религиозного общества, церкви, руководимой атеистами и скептиками в маске мудрецов*236.
Здесь именно мы и получим тот водораздел, по которому будет проходить разделяющая черта, за которой, по мысли нашего автора, будут находиться «учения о последних вещах» и «религиозная эсхатология», к которым он отсылает тех, кто может принять эти «последние вещи» как действительную реальность. Но если нравственность, лежащая в основе бесконечного стремления к идеалу, ведет к трагизму нравственного сознания (т.е. практически к отрицанию нравственности, ибо трагическое раздвоение не может быть нравственным), то и отсылка к религии приводит нас на узкие пути катастрофизма. Идеальное состояние и осуществление его «может быть достигнуто через преображение, через катастрофический перерыв, через тайну всеобщего перерождения». «В эсхатологических представлениях бесконечный процесс развития не кончается, а именно прерывается: не человеческая мощь достигает здесь естественного своего предела, а чудо высшей благодати совершает акт всеобщего перерождения»62. Катастрофизм, как теория, где бы он ни проводился, а в религии тем более, есть не что иное, как представление, зиждущееся на двух предпосылках: на признании неисцелимой немощи человечества и на всемощной, всепревозмогающей силе божества. При таких предпосылках естественно сказать, что в случае перехода к эсхатологическим представлениям «не человеческая мощь достигает тут естественного своего предела, а чудо высшей благодати совершает акт всеобщего перерождения». В катастрофической эсхатологии, как вообще при всех катастрофических построениях, весь смысл потрясения заключен в столкновении двух сил, из которых одна обладает превозмогающей действенностью, а другая является косной противодействующей средой. Столкновение этих двух противоположно направленных сил и даст ту форму стремительно протекающего изменения, которую принято называть катастрофой. И действительно, выход из тупика, в который заводят построения «бесконечного совершенствования» на религиозной почве, возможен, с одной стороны, только в случае признания полной пассивности человечества (которое даже при самом длительном совершенствовании всё же оказывается не годным ни на что, кроме суда и наказания при помощи губительнейших катастроф), и, с другой стороны, при всепревозмогающей активности спасающего и карающего божества. Эта полярность и несоединимость Бога и человека необходима для того, кто отсылает к эсхатологии, отгораживая свои построения от религии и вообще рассекая и разделяя сферы мысли и действия, идеала и действительности. Конечно, построениям, подобным только что рассмотренному, совершенно чужда мысль о том, что если и приходится говорить, что только «чудо высшей благодати совершает акт всеобщего перерождения», то ведь в природном строе «человеческая мощь» как таковая и есть не что иное, как это спасительное «чудо высшей благодати».
Мы назвали книгу «Об общественном идеале» поразительной книгой. Она поразительна тем, что по ней можно судить о том, насколько сложно и болезненно для современности стоит вопрос об идеале, о цели, задаче и смысле общественного процесса. Единственные корректные и формально безукоризненные построения в этой области, идеал «земного рая» в общем смысле, а в частности анархические и социалистические идеалы, не в силах уже удовлетворить широкие мыслящие круги. Идеалы эти захвачены тем серьезным кризисом, который господствует и в других сферах жизни. Во многом они противоречивы, а начавшийся процесс их воплощения не снимает тех жизненных противоречий, которые мучают современное человечество, а, скорее, наоборот, грозит обострить их. Воплощение этих идеалов в жизни грозит усилить и ускорить кризис, и многим кажется, что причиной этого кризиса и гибели того, что мнится столь ценным достижением исторического прогресса, являются эти идеалы. И вот задача раскрытия противоречий и ошибок в построении этих идеалов становится очередной для весьма многих мыслителей и ученых. Но поразительно не то, что за ее выполнение хватаются очень многие, но удивительно то, что за ее выполнение принимаются, не выработав и не подготовив новых точек зрения, не выдвинув новых идеалов, не имея твердой почвы, с которой можно критически отнестись к «утопии земного рая» и не только достаточно удовлетворительно изъяснить причины их неудач, ошибок и противоречий, но и указать средство исцеления и исправления их и дать человечеству иные точки приложения своих сил. Ни идеал «бесконечного совершенствования», ни связанные и вытекающие из него «бесконечное развитие» и «обеспечение самоценности человеческой личности», ни «трагизм нравственного сознания», ни религиозные катастрофы в качестве последнего прибежища для этого дела не годятся. Против эсхатологических построений «земного рая» и идеалов «конечного совершенства» необходимо выставить тоже эсхатологические построения большей силы, прямоты и продуманности, чем нигилистические и противоречивые построения «бесконечного совершенствования», ведущие в существе к «совершенному концу», в черную яму небытия.
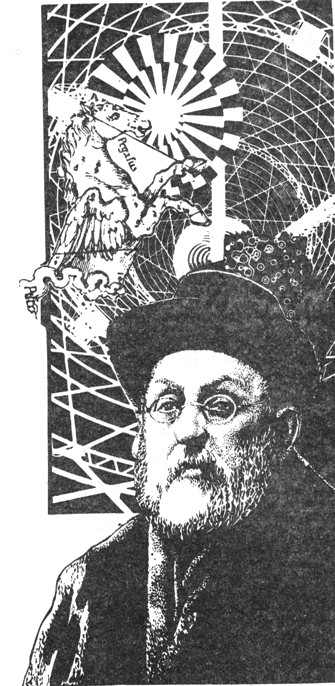 Циолковский у нас в стране известен буквально всем как отец космонавтики, изобретатель ракеты. О том, что он был еще и мыслителем, развивавшим некую «космическую философию», также подозревают многие, хотя вряд ли представляют более-менее отчетливо суть его идей. Впрочем, даже в книгах и статьях, посвященных его личности и вкладу в отечественную и мировую науку, долго мало что писали о его собственно философских взглядах или подавали их с сильной ретушью, игнорируя все то «странное», фантастическое, чуть ли не теософско-мистическое, что не приличествовало «отцу» и основоположнику большой позитивной отрасли знания и деятельности. Многие из его философских брошюр, вышедших в Калуге в 20-30-е гг., до сих пор не переизданы. В написанной за несколько месяцев до смерти автобиографии «Черты моей жизни», говоря о своих работах, составляющих наследие столь дорогой ему «естественной философии», Константин Эдуардович отмечал: «Некоторые из них напечатаны, большинство же и сейчас лежит в рукописях». Положение с ними осталось почти неизменным и в наше время.
Циолковский у нас в стране известен буквально всем как отец космонавтики, изобретатель ракеты. О том, что он был еще и мыслителем, развивавшим некую «космическую философию», также подозревают многие, хотя вряд ли представляют более-менее отчетливо суть его идей. Впрочем, даже в книгах и статьях, посвященных его личности и вкладу в отечественную и мировую науку, долго мало что писали о его собственно философских взглядах или подавали их с сильной ретушью, игнорируя все то «странное», фантастическое, чуть ли не теософско-мистическое, что не приличествовало «отцу» и основоположнику большой позитивной отрасли знания и деятельности. Многие из его философских брошюр, вышедших в Калуге в 20-30-е гг., до сих пор не переизданы. В написанной за несколько месяцев до смерти автобиографии «Черты моей жизни», говоря о своих работах, составляющих наследие столь дорогой ему «естественной философии», Константин Эдуардович отмечал: «Некоторые из них напечатаны, большинство же и сейчас лежит в рукописях». Положение с ними осталось почти неизменным и в наше время.
«Новый гражданин Вселенной Константин Циолковский», как называл себя он сам, появился на свет 17 сентября 1857 г. в селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии в семье лесничего, обрусевшего поляка, одним из предков которого был «бунтарь Наливайко». Отец, человек «сильного и тяжелого для окружающих характера», передал сыну свою страсть к изобретательству и незаурядную силу воли, а мать, с примесью татарских кровей, натура сангвиническая, пылкая, доброжелательная, наделенная прекрасным голосом, – свою общую, по выражению Циолковского, «талантливость».
Из смутных глубин памяти о детстве вылавливает Константин Эдуардович особый штришок своей натуры: «любил мечтать и даже платил младшему брату, чтобы он слушал мои бредни». (В историю войдет он, как известно, «калужским мечтателем».) В десять лет Костю настигает несчастье: сильная простуда, скарлатина и как результат – глухота, почти полная. Шок от этого внезапного увечья был так силен, что мальчик до 14 лет погрузился в «период несознательности», произошла остановка в развитии, чуть ли не регрессия в раннее «вегетативное» детство. Но что-то в нем полубессознательно накапливалось и готовилось к пробуждению. Интересная деталь этих лет: проявления лунатизма. С 14 лет – внезапный интерес к учебникам по арифметике, математике, физике (всё в них оказалось совершенно доступным) и всплеск увлеченного и успешного изобретательства; это и побудило отца Константина, уверовавшего в необыкновенные технические способности сына, из Вятки (куда переехала семья) отправить его, к этому времени 16-летнего гимназиста третьего класса Вятской гимназии, в Москву. Самим же юношей движет жажда знаний, потребность создавать все более изощренные машины, расширяющие мощь человека, его власть над материей и пространством. Сам физический ущерб Циолковского стал внутренним импульсом к развитию, к превозможению себя, к восхождению не только на обычный, но и сверхобычный уровень. Полуглухой чудак, с отросшими волосами, прожженными там-сям от химических опытов брюками, полуголодный (все присылаемые отцом деньги уходят на реактивы), Константин регулярно является с 1873 г. сначала в Чертковскую, единственную общедоступную московскую библиотеку, потом в открывшуюся Румянцевскую.
В первой происходит провиденциальная встреча с ее тогда еще безвестным служащим, таившим, однако, в себе грандиозную мечту о бессмертии и космическом будущем преображенного человечества, и не просто мечту, но и глубину философской ее разработки, богатство конкретных проектов, редкую энциклопедическую образованность. Вот как Циолковский в «Чертах моей жизни» передает свои впечатления от поразившего его человека «с необыкновенно добрым лицом»: «Никогда потом я не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души... Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров – друг Толстого и изумительный философ и скромник». Позднее Циолковский признавался своему биографу К. Алтайскому, что именно Н.Ф. Федоров, сам, кстати, сторонник библиотечного, активно-творческого самообразования, «заменил ему университетских профессоров». Но в поле влияний, будоражащих юную душу Константина, входят и явления далекие, чуть ли не враждебные тому же Федорову: «Известный молодой публицист Писарев заставлял меня дрожать от радости и счастья. В нем я видел тогда второе Я». Позднее Циолковский пересмотрит такое восторженное отношение к неистовому, блестящему нигилисту, утверждавшему плебейское достоинство, крушение отвлеченных культурных кумиров ради задач реальной жизни, но этические идеалы шестидесятников всё же оставят причудливо трансформированный след в построениях космического философа.
В 1879 г. Константин Эдуардович сдает экстерном экзамен на звание учителя арифметики и геометрии с правом преподавания в уездных училищах и со следующего года получает место в Боровске. (Кстати, сам Циолковский отмечал, что в этом же древнем городке в том же училище за 13 лет до него работал его московский наставник Федоров.) Здесь Циолковский пробыл 12 лет, женился, здесь же установил тот стиль жизни, который продолжился и в Калуге, куда его перевели в 1892 г. Внешняя канва его существования неприхотливо и однообразно ткалась из года в год: преподавание в училищах, а свою службу Циолковский любил, умея зажигать любопытство учеников остроумными опытами и техническими штучками собственного изготовления; материальные заботы о большой семье, где духовно ближе всего были к нему дочери; и главное – непрерывная работа мысли и воображения, постоянные эксперименты, изобретательство, конструирование, чтение и сочинение произведений, научно-теоретических, художественно-фантастических, натурфилософских, узкий круг общения только с людьми необыденных интересов, короткий отдых, прогулки пешком, в Боровске еще и коньки, а в Калуге – велосипед. Тесно общавшийся с ним в Калуге молодой А.Л. Чижевский, впоследствии крупный ученый и мыслитель, вспоминает о его особой любви к «обворожительной», мягкой, обволакивающей, как любящая женщина, среднерусской природе; на лоне ее во время одиноких прогулок и являлись, по признанию Циолковского, все его лучшие идеи, которые он потом лишь записывал или осуществлял. Но уж вовсе не столь ласковой и тем более стимулирующей, как природа, была к ученому и мыслителю окружавшая его людская среда, и местная, провинциальная, где он числился чудаком и неудачником, и столичная, научная, высокомерно третировавшая его как самоучку и безумного фантазера. Разрыв внешней «убогости» его существования, усугубленной глухотой и бедностью, и внутренней значительности его своеобразного гения, улетавшего мыслью в космические дали, нашедшего и первый эффективный способ отрыва человека от Земли, был поистине гигантский. Правда, уже с конца прошлого и в начале нашего века выходят в научно-популярных журналах такие фантастические повести Циолковского, как «На Луне» или «Вне Земли», а в 1903 г. в журнале «Научное обозрение» – его «Исследования мировых пространств космическими приборами», где он вывел свою ставшую позднее классической формулу ракеты, но они были практически никем не замечены.
Положение начинает несколько меняться в 20-е гг., когда идеи Циолковского проникают в общественные, культурные круги, питая довольно распространенный тогда пафос космизма, покорения стихийных сил природы как высшей задачи новой творческой эпохи – хотелось верить, – открытой революцией. В 1924 г. переизданием его статьи о ракете утверждается его мировой приоритет в этой области. Появились и молодые инженеры-энтузиасты, объединившиеся в Группу изучения ракетного движения во главе с Ф.А. Цандером (1835–1920), где начал свой тернистый путь и С.П. Королев (1907–1966), будущий главный конструктор ракет, выведших впервые человека в космос. В 30-е гг., незадолго до смерти, Циолковский был обласкан правительством, награжден орденом и большей пенсией: особые хозяйственные и военные надежды были возложены на одно из его изобретений – цельнометаллический дирижабль. Начал создаваться идеально олеографический образ гениального самородка, затертого в царское и блистательно признанного в советское время. Но избранные святцы отечественной материалистической науки и передовой техники почему-то так и не дали ему права на долгие годы, вплоть до последнего времени, быть полностью изданным широко прочитанным и понятым в своих самых заветных и дорогих идеях. Их надолго редуцировали до единственного изречения: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство», которое принудительно украшало тысячи плакатов и транспарантов в школах, клубах, дворцах культуры огромной страны.
«Грезами о земле и небе» назвал одну из своих ранних фантастических работ Циолковский. Но и многочисленные его книжечки по «естественной философии», изданные за свой счет, населены такими же грезами и о тех же «горних» предметах. Однако при чтении этих произведений необходимо учитывать одно обстоятельство: мечтающий, анализирующий, проектирующий взор автора проникает здесь, я бы сказала, в разную даль пространств и времен. То он останавливается поближе, на Земле и землянах, рисуя картины будущего преобразования планеты, где и регуляция стихий, и широкое использование солнечной энергии, и усовершенствование растительных, животных форм и самого человека. То он расширяет обзор до пределов нашей планетной системы, околосолнечного пространства, а во времени – до нескольких десятилетий, столетий и тысячелетий. На этих стадиях освоения ближнего космоса отдается значительная дань весьма хитроумным техническим проектам околосолнечных поселений, искусственных жилищ, космических оранжерей и т.д. То мыслитель воображает себе будто бы наличное положение с жизнью и сознанием во Вселенной, и тогда как торжествующая реальность явно описывается предельная мечта нашего визионера о должном состоянии космоса, для убедительности подкрепленная рядом материалистических, но вовсе не безусловных выкладок. А то и уносится он куда-то в необозримость, за миллиарды и миллиарды лет вперед, в финалы и апофеозы активной эволюции, когда уже всемогущее человечество умеет выключать действие существующих природных законов (того же второго закона термодинамики, пророчащего энтропию и «тепловую смерть»), овладевает временем и пространством, метаморфозой вещества и энергии и выходит в лучистое, духовное состояние. Из него оно, впрочем, способно вернуться опять в корпускулярную, вещественную форму, чтобы снова на еще более высокой и пока невообразимой ступени повторить цикл развития, а потом опять вернуться и – до возможного финального божественного, «нирванического» совершенства. Именно такое свое наиболее таимое, «эзотерическое» видение будущего однажды поведал Циолковский Чижевскому в одной из их бесед 1932 г. (запись ее была опубликована только в 1977 г. под названием «Теория космических эр»). Одним словом, у Циолковского необходимо расчленять уровни проникновения его мысли, обусловленные богатой прогностической фантазией, и, чтобы не запутаться, отдавать себе отчет, на каком уровне он промышляет на этот раз.
Во вступительной статье к антологии уже было дано в общих чертах то видение кишащего высокоорганизованной жизнью космоса, которое преобладает в философских работах Циолковского. Этим он утешал и землян, предоставленных мучительному саморазвитию: ведь каждому из них, точнее, их бессмертным мозговым атомам выдается шанс попасть в мозг «богов разных степеней», каковыми являются многочисленные или даже неисчислимые небожители, или, точнее, косможители. Наделив прерогативой бессмертия атом, калужский мыслитель не хочет понять тех, кто противится манящим перспективам атомарного бессмертия, кто хотел бы в обещанном блаженном космосе вновь встретить своих близких и любимых, сохранить и в новом существовании тождество своей собственной личности. Циолковский же спокойно и чуть не радостно благословляет их на разрыв и полное беспамятство: «Сейчас вы желаете свидания с умершими, но смерть истребит и эти желания. Недовольство ваше только при жизни – уйдет жизнь, уйдет и оно», В «атомном» трансформизме проявилась его нечувствительность к основной ценности активно-эволюционной мысли – к личности. Оттого в его совершенном космосе как бы атрофировано всё с ней неотъемлемо связанное: богатство межчеловеческих, родственно-любовных отношений, душевное начало – жалость, память, привязанность и, главное, любовь. Любовь, которая в христианском космизме – основа основ, новый принцип преображенного бытия. Ненароком сам Циолковский признается, что периоды жизни, из которых с перерывами несознаваемого небытия составляется единая непрерывность существования, «довольно однообразны: счастье, довольство, сознание Вселенной, сознание своей нескончаемой судьбы, понимание истины, которая есть верный путь к поддержке космоса в блестящем состоянии совершенства». Именно эта «поддержка» и является высшим императивом его космической «научной этики». Не личность с бесконечностью ее внутреннего творческого развития, а космос в целом. Космос и стал для Циолковского воплощением высшей «божественной» реальности, и как восторженный и преданный служитель этой пантеистической религии Космоса, он и построил свою огромную, расцвеченную всеми красками и населенную массой визионерски добытых деталей прекрасную Иллюзию. В этой «религиозной» экзальтации господствует своего рода самовнушение и самотерапия, заклинательная эйфория, питаемая «научной» уверенностью, что во Вселенной царит, за небольшим исключением, высший разум, радость и блаженство, правда достигнутые все же творческим преобразовательным усилием сознательных существ (и тут надо отдать должное мыслителю).
К счастью, не только эти в общем-то наивно-фантастические, с известным ценностным ущербом представления исчерпывают космическую философию Циолковского. Наиболее перспективно в ней – ее активно-эволюционное ядро: убежденность в восходящем развитии мира и самой природы человека, когда его разум, его сущностные силы становятся сознательным орудием такого восхождения. Первым среди ученых он увидел в космосе не просто некую беспредельную физическую среду, вместилище материи и энергии, а потенциально пригодное поприще для будущего и биологического, и социального существования и творчества землян. Для Циолковского отрыв сознательных существ от материнского лона своей планеты, выход в космические просторы, освоение и преобразование их – эволюционно необходимый и неизбежный момент в развитии цивилизации. Саму «теологическую» причину космоса он связывает с порождением в нем сознательных существ: «Какой бы смысл имела Вселенная, если бы не была заполнена органическим, разумным, чувствующим миром?» Кстати, в неопубликованных записях его последних лет можно найти и предвосхищение ант-ропного принципа. Он рассуждает так: поскольку человек как микрокосм имманентен космосу, «тот космос, который мы знаем, не может быть иным».
Ноосферные акценты воззрений Циолковского очевидны. В архивной работе «Разум и звезды» находим их в форме чеканных тезисов: «Влияние разумных существ на развитие Вселенной... Влияние разума на устройство Вселенной. Мысль как фактора эволюции Космоса». Как все мыслители-космисты, Циолковский не считал человека окончательным венцом творения, остро чувствовал его несовершенную, промежуточную, кризисную пока природу. «Разве человек не имеет бездну физических, умственных и социальных недостатков, чтобы оставаться с тем, что он имеет!» – восклицает Константин Эдуардович, выражая уверенность, что придет время, когда «человек примется за преобразование своего тела». И продолжает: «Физиологи знают, какое множество недостатков имеют тела даже высших животных. Все они должны быть устранены путем упражнения, подбора, скрещивания, операций и другими способами... Даже у людей нет ни одного совершенного, или безукоризненного, органа». И хотя всю жизнь он боролся за техническое средство космической экспансии – свою ракету, в более далекой перспективе он видел усовершенствованные сознательные существа, уже обходящиеся в основном без искусственных, технических приставок к своим органам. В одной из неопубликованных работ Циолковского среди высших целей человечества находим: «Беспредельность прогресса и надежда на уничтожение смерти». Казалось бы, такой подход, т.е. достижение «трудового», как сказал бы Федоров, долголетия и бессмертия, не совместим с уже известной нам концепцией заложенного в самой природе вещей, уже данного и, следовательно, более «легкого» атомарно-панпсихического бессмертия, но Циолковский сумел их тем не менее как-то состыковать в своем видении: бессмертному мозговому атому «выгодно» попадать именно в совершенные, долгоживущие и бессмертные организмы для большего индивидуально осознаваемого и ощущаемого блаженства.
Безусловно одно: само бессмертие было величайшим благом для калужского мечтателя, и он искал путей к нему и для человечества в целом и для отдельного человека. А.Л. Чижевский вспоминает горькие сетования Константина Эдуардовича на трагический контраст между его внутренними, интеллектуальными, духовными, силами и разваливающимся физическим организмом: «Разве это не ужас? Разве это не преступление природы против человека? Я не устал, я хочу жить, а тело отказывается мне повиноваться. Значит, пресловутая медицина еще не наука – она не умеет лечить старость». То, что космическое будущее требует радикального прогресса в самой его физической организации, в том числе и в продолжительности его жизни, было для Циолковского несомненным.
Более того, он пытается тут же представить себе такое будущее существо, которое могло бы быть максимально независимым буквально от всех ограничивающих условий нашего теперешнего существования, от всех – вплоть до пищи. Он подробно описывает воображаемую действующую модель автотрофного (самопитающегося) существа: оно герметически изолировано от внешнего мира, лишено и органов выделения, в него проникают только лучи света, они разлагают хлорофилл, растворенный в крови, углекислый газ и продукты распада и превращают их в кислород, сахар, крахмал, азотистые и другие питательные вещества, которые и служат «питанием», образуют ткани «животного космоса». На следующей стадии – новое разложение, образование продуктов распада – мочевина, аммиак и др., которые, не выделяясь из организма, играют ту же роль, что удобрения, газообразные, неорганические продукты для растений, и вновь солнечная, световая энергия трансформирует их в питательные вещества и в кислород, «горючее» для мускульной, нервной системы и мозга удивительного создания. Так устанавливается замкнутый цикл процессов обмена, который не предполагает остановки или конца. Если хотите, это своего рода проект биологического «вечного двигателя». Масса такого существа, по Циолковскому, постоянна, и «оно живет, мыслит, двигается, допустим даже, что не умирает». Обитать оно может всюду, в пустоте, в эфире, без силы тяжести – «была бы лучистая энергия. А ее в космосе неисчерпаемо много». Циолковский продумывает и каверзный вопрос: откуда может возникнуть этот необыкновенный организм и сможет ли он сам производить потомство? И находит остроумное «техническое» решение, разделив его существование на два этапа, отграниченные метаморфозой, аналогичной превращению гусеницы в куколку и бабочку. В первой своей стадии это существо рождается, развивается, как все земные твари, а «затем понемногу преобразуется», теряет большинство своих прежних органов, покрывается абсолютно непроницаемой оболочкой – и вот оно готово для бессмертной космической судьбы. Так Циолковский предвосхищает идею Вернадского о будущей автотрофности человека, правда, вносит в нее не только больший радикализм, но и несколько грубоватый, инженерный дух и расчет.
Такое, можно сказать, проективно-инженерное наклонение философского мышления и составляет его оригинальность. Так и видишь вереницу народных умельцев, гениальных ремесленников, изобретателей-чудаков, веками мастеривших всякие полезные, а то и диковинные штучки-вещички и сложивших в себе определенный тип ума и отношения к веществу мира и рукотворному изделию. А в их духовном потомке, великом калужском мечтателе, такой менталитет устремился уже к касанию вещей космических. И грезит он о «новом небе и новой земле» не столько философски-обобщенно, мистически-духовно, сколько въедливо-конкретно, предельно детализирован-но, во всех. так сказать, «болтах и шурупчиках». В работе «Живые существа в космосе» он опробует, как истый механик, различные варианты «конструкции» таких возможных существ: тех или иных размеров, от карликов до гигантов, с теми или иными органами. Воображение и мысль его работают подчеркнуто в поле гипотетически научно возможного. Правда, все это в пределах механических и физико-химических знаний, которыми он владел; масса тончайших параметров живого и необходимостей, им управляющих, почти не принималась во внимание. А ведь трансформации над живыми формами, а тем более обладающими сознанием и психикой, не могут быть столь рационально ясны и осуществимы, как новый тип примуса для изобретателя-умельца.
В космической философии Циолковского мы найдем – по сравнению с другими мыслителями активно-эволюционной ориентации – самую пеструю смесь разного рода влияний – от индуистско-буддийских верований в реинкарнацию, античного гилозоизма и эвдемонизма до морали «разумного эгоизма» и современной ему теософии. Гениальная наивность Циолковского не просто эклектически их соединяет, а претворяет в поле его собственных первичных мировоззренческих интуиций и мощной творческой воли, в свое оригинальное видение. Великолепно выразил глубинный пафос этого видения А.Л. Чижевский: «Космические идеи, которые в конечном счете являлись основным двигателем всего творчества Константина Эдуардовича, говорят о величайшей воле к жизни, заложенной в нем. Это воля к победе человеческого разума над стихийными силами природы, воля, основанная па твердом знании, в ее осуществлении – покорение безграничных сил, пространств и времен Вселенной. Так она жила и бурлила в уме и сердце калужского мечтателя, предвосхитившего за многие тысячелетия интегральную волю всего будущего человечества в целом – жить и во что бы то ни стало обсеменить разумом весь видимый и невидимый мир».
В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горестью в сердце, не узнав от меня (из чистого источника знания), что вас ожидает непрерывная радость.
Вот почему я пишу это резюме, не окончив еще многочисленные основные работы.
Мне хочется, чтобы эта жизнь ваша была светлой мечтой будущего, никогда не кончающегося счастья.
Моя проповедь в моих глазах даже не мечта, а строго математический вывод из точного знания.
Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома. Это увеличит ваше здоровье, удлинит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы. Вы будете умирать с радостью и в убеждении, что вас ожидает счастье, совершенство, беспредельность и субъективная непрерывность богатой органической жизни.
Мои выводы более утешительны, чем обещания самых жизнерадостных религий.
Ни один позитивист не может быть трезвее меня. Даже Спиноза*238 в сравнении со мной мистик. Если и опьяняет мое вино, то все же оно натуральное.
Чтобы понять меня, вы должны совершенно отрешиться от всего неясного, вроде оккультизма, спиритизма, темных философий, от всех авторитетов, кроме авторитета точной науки, т.е. математики, геометрии, механики, физики, химии, биологии и их приложений. <...>
Я – чистейший материалист. Ничего не признаю, кроме материи. В физике, химии и биологии я вижу одну механику. Весь космос только бесконечный и сложный механизм. Сложность его так велика, что граничит с произволом, неожиданностью и случайностью, она дает иллюзию свободной воли сознательных существ. Хотя, как мы увидим, всё периодично, но ничто и никогда строго не повторяется.
Способность организмов ощущать приятное и неприятное я называю чувствительностью. Заметим это, так как под этим словом часто подразумевают отзывчивость (в живом – рефлексы). Отзывчивость – совсем другое. Отзывчивы все тела космоса. Так, все тела изменяются в объеме, форме, цвете, крепости, прозрачности и всех других свойствах в зависимости от температуры, давления, освещения и вообще воздействия других тел.
Мертвые тела даже иногда отзывчивее живых. Так, термометр, барометр, гигроскоп и другие научные приборы гораздо отзывчивее человека.
Отзывчива всякая частица Вселенной. Мы думаем, что она также чувствительна. Объяснимся.
Из известных нам животных чувствительнее всех человек. Остальные известные животные тем менее чувствительны, чем организация их ниже. Растения чувствительны еще менее. Это непрерывная лестница. Она не кончается и на границе живой материи, потому что этой границы нет. Она искусственна, как и все границы.
Чувствительность высших животных мы можем назвать радостью и горем, страданием и восторгом, приятностью и неприятностью. Ощущения низших животных не так сильны. Мы не знаем их названия и не имеем о них представления. Тем более не понятны нам чувства растений и неорганических тел. Сила их чувствительности близка к нулю. Говорю на том основании, что со смертью, или переходом органического в неорганическое, чувствительность прекращается. Если она прекращается в обмороке благодаря остановке сердца, то тем более она исчезает при полной разрухе живого.
Чувство исчезает, но отзывчивость остается и у мертвого тела, только она становится менее интенсивной и доступной более для ученого, чем для среднего человека.
Человек может описать свои радости и муки. Мы ему верим, что он чувствует, как и мы (хотя на то нет точных доказательств; интересный пример веры в ненаучное). Высшие животные своим криком и движениями заставляют нас догадываться, что их чувства подобны нашим. Но низшие существа и того не могут сделать. Они только бегут от того, что им вредно. (Тропизм*240.) Растения же часто и того не могут совершить. Значит ли из этого, что они ничего не ощущают? Неорганический мир тоже ничего о себе не в силах сообщить, но и это еще не означает, что он не обладает низшею формою чувствительности.
Только степень чувствительности разных частей Вселенной различная и непрерывно меняется от нуля до неопределенно большой величины (в высших существах, т.е. более совершенных, чем люди. Они получаются от людей же или находятся на других планетах).
Всё непрерывно, и всё едино. Материя едина, также ее отзывчивость и чувствительность. Степень же чувствительности зависит от материальных сочетаний. Как живой мир по своей сложности и совершенству представляет непрерывную лестницу, нисходящую до «мертвой» материи, так и сила чувства представляет такую же лестницу, не исчезающую даже на границе живого. Если не прекращается отзывчивость, явление механическое, то почему прекратится чувствительность – явление, неправильно называемое психическим, т.е. ничего общего с материек) не имеющим. (Мы этому слову придаем материальность.) И те и другие явления идут параллельно, согласно и никогда не оставляют ни живое, ни мертвое. Хотя, с другой стороны, количество ощущения у мертвого так мало, что мы условно или приблизительно можем считать его отсутствующим. Если на черную бумагу упадет белая пылинка, то это еще не будет основанием называть ее белой. Белая пылинка и есть эта чувствительность «мертвого».
В математическом же смысле вся Вселенная жива, но сила чувствительности проявляется во всем блеске только у высших животных. Всякий атом материи чувствует сообразно окружающей обстановке. Попадая в высокоорганизованные существа, он живет их жизнью и чувствует приятное и неприятное, попадая в мир неорганический, он как бы спит, находится в глубоком обмороке, в небытии.
Даже в одном животном, блуждая по телу, он живет то жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т.д. Значит, он то мыслит, то живет подобно атому, заключенному в камне, воде или воздухе. То он спит, не сознавая времени, то живет моментом, как низшие существа, то сознает прошедшее и рисует картину будущего. Чем выше организация существа, тем это представление о будущем и прошедшем простирается дальше.
Я не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность всей Вселенной. Это свойство я считаю неотделимым от материи. Всё живо, но условно мы считаем живым только то, что достаточно сильно чувствует. Так как всякая материя всегда, при благоприятных условиях, может перейти в органическое состояние, то мы можем условно сказать, что неорганическая материя в зачатке (потенциально) жива. <...>
Люди склонны думать, что всё умирает, как умирают они сами. Под смертью они подразумевают вечное погасание жизни или состояния. Это одна из иллюзий ума, называемая антропоморфизмом, или уподоблением окружающего явления жизни человека. Антропоморфист думает, что какая-нибудь палка, гора, травка, насекомое думает и делает, как он сам. Например, камень родится, растет, умирает, гора размышляет, бактерия соображает, амеба хитрит и т.д.
Но нельзя не верить и в обратный процесс – восстановления. Разве рождение растений, животных и человека не есть процесс, обратный умиранию? Разве мы видим только одно разрушение организма? В равной мере царствует и созидание – явление обратное, Оно даже сильнее умирания, так как число организмов на Земле непрерывно возрастает. Население Земли может увеличиться, при сохранении величайшего благосостояния, в тысячу раз. Если бы не ограниченность солнечной энергии, приходящейся на долю Земли, то вся она могла бы превратиться в живое. Вся планета до самых недр могла бы тогда ожить. Можно ли после этой картины сомневаться в жизненности материи! Мозг и душа смертны. Они разрушаются при конце. Но атомы или части их бессмертны, и потому сгнившая материя опять восстанавливается и опять дает жизнь, по закону прогресса, еще более совершенную.
Планеты были сияющими солнцами и погасли. То же ожидает и все солнца. Они должны погаснуть. Прекратится их лучеиспускание – источник жизни, – и живой мир на планетах умрет. Вселенная станет подобна темнице без окон и дверей. Но возможно ли это? Навсегда ли это? Вселенная прожила бесконечность времени, и если бы солнца угасали, то не было бы тысяч миллиардов солнц, которые мы сейчас видим в млечных путях.
Редко астрономы наблюдают угасание солнц, гораздо чаще возникают новые солнца. В каждое столетие появляется их в Млечном Пути несколько штук. Это справедливо и относительно иных спиральных туманностей; там тоже возникают вспышки зарождающихся солнц.
Вот и разгадка вечного сияния Млечного Пути и миллиона других таких же спиральных туманностей; хотя и гаснут солнца, но на место их возгораются новые.
Итак, солнце светит миллиарды лет, оживляя на остывших планетах материю. Затем они остывают с поверхности и не дают лучей. Но атомный процесс внутри их не останавливается, они накопляют радиоактивную материю, которая дает вещество элементарное и очень упругое. Все это кончается взрывом, т.е. появлением временной звезды и образованием разреженной газовой массы, которая и дает через биллионы лет солнце с планетами и их спутниками.
Умирают и спиральные туманности (страшно отдаленные группы солнц, или млечные пути), т.е. их солнца сливаются и превращаются в очень разреженную материю.
Слияние звезд каждого млечного пути неизбежно, по теории вероятности, но оно требует громадного времени, которое можно вычислить. Оно в миллиарды раз больше периода жизни одной солнечной системы. За слиянием следует период блеска, за ним – остывание, а далее взрыв, образование туманности, т.е. зачаточного млечного пути. Но и он воскресает или снова дает млечный путь, состоящий из группы солнц. Доказательством этого возникновения служат те сотни тысяч спиральных туманностей, которые не выходят из поля зрения гигантских телескопов. Если одни из них угасают, то другие восстанавливаются из угасших невидимых. Также и группе млечных путей, т.е. эфирному острову, должен быть временный конец. Но и эфирных островов множество. Если один из них преобразовывается в элементарную материю, то другой из подобной же возникает. Все астрономические единицы живут и умирают, чтобы снова возникнуть. Вернее, только преобразовываются, образуя то сложное, то более элементарное вещество и давая нам то вид звездного неба, то вид разреженного большею частью невидимого газа.
Если период Солнечной системы составляет биллионы (1012) лет, то период Млечного Пути (астроном, единица 3-го класса) продолжается квадриллионы (1024) лет, а жизнь эфирного острова – секстиллионы (1036). Чем сложнее астрономическая единица, чем выше ее класс, тем ее повторяющийся период длиннее. Какой же результат? Вывод тот, что Вселенная, в общем, всегда представляла одну и ту же картину. Хотя бы наша планетная система и была биллионы лет тому назад туманностью, но вид Млечного Пути в течение квадриллионов лет оставался тот же. Это было скопление сотен миллионов солнц в разном возрасте – от планетарных туманностей до застывших с поверхности темных солнц. Хотя и Млечный Путь квадриллионы лет тому назад был единой чрезвычайно разреженной материей, но существовали другие млечные пути в эфирном острове, состоящие из собрания солнц, и картина его в среднем почти не изменялась в продолжение секстиллионов лет. Также эфирный остров был временно разрушен, но группа их, или единиц 5-го класса, жила по-прежнему, состоя из множества уцелевших эфирных островов. Каждый содержал миллионы млечных путей, каждый из последних, в свою очередь, состоял из сотен миллионов солнечных систем, а каждая солнечная система из сотен планет.
Итак, всегда Вселенная содержала множество планет, освещаемых солнечными лучами.
Всю бесконечность космоса не может обнять ограниченный человеческий ум. Но вообразим, что мы можем наблюдать один наш эфирный остров в течение секстиллионов лет. Что мы тогда увидим? В каждом млечном пути, из которых он состоит, множество раз погасают солнца, возникают туманности, превращаясь в гигантские солнца и затем в планетные системы. И наша солнечная система много раз должна умереть и возникнуть.
Проходят еще многие биллионы лет, и мы видим, как сливаются постепенно солнца в любом млечном пути. Они близятся к единению и через многие триллионы лет к погасанию, пройдя предварительно период невообразимого блеска от столкновения и слияния солнц. Итак, мы видим, через квадриллионы лет, погасание млечных путей, их обращение в туманности и новое возникновение в форме собрания солнечных систем.
Секстиллионы лет держится эфирный остров, млечные пути которого множество раз разрушаются и возникают. Но, наконец, и млечные пути сливаются; разрушается сам эфирный остров, чтобы возникнуть снова во всем блеске его жизни.
Что же считать за начало Вселенной? Если ограничиться эфирным островом, то за начало Вселенной можно принять состояние «острова» в виде аморфной материи. Но не надо забывать, что это «начало» есть только начало периода и повторяется бесконечное число раз.
Если млечный путь считать космосом, то началом Вселенной будет его газообразное состояние. И это «начало», конечно, есть только начало одного из бесконечно повторяющихся периодов.
Наконец, если мир ограничить солнечной системой, то началом космоса будет состояние ее в форме очень разреженной материи. <...>
Мы проповедуем монизм во Вселенной – не более. Весь процесс науки состоит в этом стремлении к монизму, к единству, к элементарному началу. Ее успех определяется степенью достижения единства. Монизм в науке обусловлен строением космоса. Разве Дарвин и Ламарк*242 не стремились к монизму в биологии? Разве того же не желают геологи? Физика и химия влекут нас по тому же направлению. Астрономия и астрофизика доказали единство образования небесных тел, сходство земли и неба, однообразие их вещества и лучистой энергии. Даже исторические науки стремятся к монизму.
В биологии объединяются клеточки низших существ, образуя животных с единым управлением (мозг – душа), объединяются люди в общества, стремясь слиться в одно могущественное тело. Скоро должна объединиться так и вся земля. Это объединение на иных планетах должно достигнуть высшего результата.
Я прибавлю к известным уже видам единства и всеобщую чувствительность материи, потенциальную способность каждого атома, при сложной обстановке, жить. Мыслит мозг, но чувствуют атомы, его составляющие. Разрушен мозг – исчезло и напряженное чувство атомов, заменившись ощущением небытия, близким к нулю.
Много общего между планетами разных солнечных систем: они составлены из одних и тех же веществ, при достаточной величине имеют моря и атмосферы, освещены лучами солнца, подвержены силе тяжести, имеют сутки и времена года.
Почему бы на них не зародиться жизни, как она зародилась на Земле! Правда, на отдаленных от светящегося светила планетах холодно, а на близких к Солнцу – жарко. Но планет у каждого солнца множество. Некоторые из них должны находиться, подобно Земле, на благоприятном расстоянии от светила и потому должны быть пригодны к жизни. Потом теории показывают, что все планеты отделились от Солнца, сначала касаясь его, и только потом постепенно удалились. Так что любая планета, некоторый промежуток времени, находилась в условиях температуры, подходящей для самозарождения и развития жизни. Наоборот, каждая планета, и в том числе Земля, когда-то не была в этих условиях. Так же каждая планета, имеющая сейчас благоприятную степень тепла, со временем лишится ее, так как удалится от светила. Кроме того, самое это центральное светило, разгораясь или угасая, также дает всем планетам удобные моменты для развития жизни, независимо от изменения их расстояния от солнца.
Некоторые планеты малы и потому без жидкостей и атмосфер. Другие велики и потому еще не остыли. А когда остыли, то уже далеко ушли от своего Солнца и не стали получать достаточно его лучей. Потому ни малые, ни большие планеты жизни не дали.
Заметим, впрочем, что эти «моменты» могут продолжаться миллиарды лет, чего достаточно для зачатия и развития организмов.
Зачавшаяся в удобный момент жизнь не погибает и при изменении условий, так как эти изменения происходят постепенно и жизнь успевает к ним приспособиться.
На малых планетах нет атмосфер. Это как будто мешает образованию живого.
Не будем сейчас спорить. Всё же вывод такой: большинство крупных планет, или, вернее, планет с газовыми оболочками, или есть, или было, или будет обитаемо.
Трудно себе представить, как идет процесс развития жизни на какой-нибудь планете, не обратившись к Земле. Чего мы можем ожидать от населения земного шара?
Человек сделал великий путь от «мертвой» материи к одноклеточным существам, а отсюда к своему теперешнему полуживотному состоянию. Остановится ли он на этом пути? Если и остановится, то не сейчас, ибо мы видим, какими гигантскими шагами прогрессирует в настоящее время наука, техника, обстановка жизни и социальное устройство человечества. Это указывает и на перемены в нем самом. Во всяком случае эти перемены должны произойти.
Правда, пока сам человек мало изменяется. Те же остатки животных страстей, инстинктов, слабость ума, рутинность. В отношении общественного развития он даже уступает муравьям и пчелам. Но, в общем, он опередил животных и, следовательно, сильно прогрессировал. Ничто сразу не останавливается. Не остановится и человек в своем развитии, тем более что ум давно уже ему подсказывает его нравственное несовершенство, но пока животные наклонности сильнее и ум не может их одолеть.
Можно вскоре ожидать наступления разумного и умеренного общественного устройства на Земле, которое будет соответствовать его свойствам и его ограниченности. Наступит объединение, прекратятся вследствие этого войны, так как не с кем будет воевать. Счастливое общественное устройство, подсказанное гениями, заставит технику и науку идти вперед с невообразимой быстротой и с такою же быстротой улучшать человеческий быт. Это повлечет за собою усиленное размножение. Население возрастет в 1000 раз, отчего человек сделается истинным хозяином Земли. Он будет преобразовывать сушу, изменять состав атмосферы и широко эксплуатировать океаны. Климат будет изменяться по желанию или надобности. Вся Земля сделается обитаемой и приносящей великие плоды. <...>
Будет полный простор для развития как общественных, так и индивидуальных свойств человека, не вредящих людям.
Картину душевного мира будущего человека, его обеспеченности, комфорта, понимания Вселенной, спокойной радости и уверенности в безоблачном и нескончаемом счастье трудно себе представить. Ничего подобного ни один миллиардер сейчас не может иметь.
Техника будущего даст возможность одолеть земную тяжесть и путешествовать по всей Солнечной системе. Посетят и изучат все ее планеты. Несовершенные миры ликвидируют и заменят собственным населением. Окружат Солнце искусственными жилищами, заимствуя материал от астероидов, планет и их спутников. Это даст возможность существовать населению в 2 миллиарда раз более многочисленному, чем население Земли. Отчасти она будет отдавать небесным колониям свой избыток людей, отчасти переселенные кадры сами будут размножаться. Это размножение будет страшно быстро, так как огромная часть яичек (яйцеклеток) и сперматозоидов пойдет в дело.
Кругом Солнца, по близости астероидов, будут расти и совершенствоваться миллиарды миллиардов существ. Получатся очень разнообразные породы совершенных: пригодные для жизни в разных атмосферах, при разной тяжести, на разных планетах, пригодные для существования в пустоте или в разреженном газе, живущие пищей и живущие без нее – одними солнечными лучами, существа, переносящие жар, существа, переносящие холод, переносящие резкие и значительные изменения температуры.
Впрочем, будет господствующий наиболее совершенный тип организма, живущего в эфире и питающегося непосредственно солнечной энергией (как растение).
После заселения нашей Солнечной системы начнут заселяться иные солнечные системы нашего Млечного Пути. С трудом отделится человек от Земли. Гораздо легче было одолеть солнечное притяжение, ввиду свободы движений в эфире и громадности лучистой энергии всего солнца, которой мог воспользоваться человек. Земля оказывается исходным пунктом расселения совершенных в Млечном Пути. Где на планетах встретят пустыню или недоразвившийся уродливый мир, там безболезненно ликвидируют его, заменив своим миром. Где можно ожидать хороших плодов, там оставят его доразвиваться. Тяжкую дорогу прошло население Земли. Страдальческий и длинный был путь. И еще осталось много времени для мучительного развития. Нежелателен этот путь. Но Земля, расселяясь в своей спиральной туманности (т.е. в Млечном Пути), устраняет эту тяжелую дорогу для других и заменяет ее легкой, исключающей страдания и не отнимающей миллиарды лет, необходимых для самозарождения.
Что мы имеем право ожидать от нашей планеты, то с таким же правом можем ждать и от других.
На всех планетах с атмосферами в свое время проявились зачатки жизни. Но на некоторых из них, в силу старшего возраста и условий, она пышнее и быстрее расцвела, дала существам техническое и умственное могущество и стала источником высшей жизни для других планет Вселенной. Они стали центрами распространения совершенной жизни. Эти потоки встречались между собой, не тормозя друг друга, и заселяли Млечный Путь. У всех была одна цель – заселить Вселенную совершенным миром для общей выгоды. Какое же может быть несогласие? Они встречали на пути и зачаточные культуры, и уродливые, и отставшие, и нормально развивающиеся. Где ликвидировали жизнь, а где оставляли ее для развития и собственного обновления. В огромном большинстве случаев они заставали жизнь отставшую, в форме мягкотелых, червей, одноклеточных или еще более низкой.
Не было никакого смысла дожидаться от нее миллиарды лет мучительного развития и получения сознательных и разумных существ. Гораздо скорее, проще и безболезненнее размножить уже готовые, более совершенные породы. Я думаю, мы на Земле не будем дожидаться, когда из волков или бактерий получится человек, а лучше размножим наиболее удачных его представителей.
Так же рассуждали и сеятели высшей жизни. Кое-где уничтожали зачатки примитивной жизни или уродливо развивавшейся, кое-где ждали хороших плодов и обновления жизни космоса.
Так без страданий заселялись и другие млечные пути (группы солнц или спиральные туманности). То же происходило и во всех эфирных островах и во всей беспредельной Вселенной. Из счастливых наиболее благоприятствуемых пунктов она, без мучительного процесса самозарождения, распространялась по окрестности соседних солнц и быстро заполняла бесконечные пустыни.
Во Вселенной господствовал, господствует и будет господствовать разум и высшие общественные организации. Разум есть то, что ведет к вечному благосостоянию каждого атома. Разум есть высший или истинный эгоизм.
Миры в младенческом состоянии, как Земля, в космосе составляют редкое исключение. Много ли однодневных людей на Земле! Еще меньше только что родившихся. Именно секундного возраста младенцев, только один на полтора миллиарда населения Земли. Так же мало и миров в младенческом возрасте. Там, во Вселенной, их особенно мало ввиду того, что большинство заселений совершается через посредство эмиграций (перемещений). Уже готовое, совершенное подобие человечества заселяло космос.
Какие же выводы? Видим беспредельную Вселенную с бесконечным числом дециллионов совершенных существ, получившихся безболезненным размножением и расселением. Такие очаги жизни, как Земля, составляют чрезвычайно редкое исключение, как младенец, имеющий одну терцию возраста. Потому мучительная жизнь Земли редкость, что она получилась самозарождением, а не заселением. В космосе господствует заселение, как процесс более выгодный. Ведь человек разводит морковь и яблоки от готовых организмов. Какое было бы безумие, если бы он захотел получить их самозарождением (автогония)!
Это возможно, только пришлось бы дожидаться моркови миллион лет.
Но в космосе самозарождение допускается, хотя и чрезвычайно редко, в силу необходимости обновления или пополнения совершенных. Кое-где они вырождаются и ликвидируются ввиду встречающегося местами регресса. Необходим свежий приток, иначе может погаснуть и совершенная жизнь или вытеснится уродливой.
Роль Земли и подобных немногих планет хотя и страдальческая, но почетная. Земному усовершенствованному потоку жизни и предназначено пополнить убыль регрессирующих пород космоса.
На долю земного населения выпал тяжелый жребий, высокий подвиг. Немногие планеты его получают. Едва ли одна на биллион. Иначе быть не может. В противном случае это противоречило бы разуму совершенных, т.е. высшему эгоизму. Не могут же они работать во вред самим себе.
Некоторая доля страданий в космосе есть горькая необходимость ввиду возможности обратного развития существ (регресса. попятного хода).
Но можно сказать, что органическая жизнь Вселенной находится в блестящем состоянии. Все живущие счастливы, и это счастье даже трудно человеку понять.
Подавленные намозолившей глаза картиной земных неустройств, вы, может быть, возразите: как же это так, если столько несчастных на Земле?
Назовем ли мы снег черным на том основании, что на его поверхности находится несколько микроскопически малых темных пылинок? Ведь снег блестит так, что больно глазам! Боимся ли проиграть, если на триллион выигрышей один билет пустой? Мы даже не боимся в этом году умереть, хотя вероятность смерти составляет не менее 2-3 процентов.
Мы видели, что каждый атом, т.е. каждая составляющая часть космоса, во время переворотов, в течение бесконечно повторяющихся больших и малых периодов всех астрономических единиц, в течение их распадения и восстановления, и сам преобразуется. Атом то разлагается – и вес его или масса уменьшается, то созидается, причем атомный вес его увеличивается. Тяжелые (массивные) элементы превращаются в легкие и обратно. Это даже необходимое условие периодичности солнц, млечных путей и других астрономических единиц. Одно связано с другим. Если бы не было превращения элементов, то не было бы периодичности астрономических единиц и обратно.
Кроме того, атом перемещается. Например, из центральных частей небесного тела попадает в краевые, от солнц перемещается на планеты и обратно. И это повторяется без конца.
Отсюда видно, что нет ни одного атома, который не принимал бы бесчисленное число раз участие в высшей животной жизни.
Так, входя в атмосферу или почву планет, он порою поступает в состав мозга высших существ. Тогда он живет их жизнью и чувствует радость сознательного и безоблачного бытия.
Пусть для этого случая воплощения потребуются миллиарды лет. Всё же атом участвует в жизни бесчисленное множество раз. Время бесконечно, и, на какие бы мы его колоссальные промежутки ни делили, число этих промежутков неограниченно велико. Иначе сказать: время участия атома в высшей жизни (а иной, в общем, нет) в абсолютном смысле бесконечно. Это участие никогда не прекращается.
Но, скажете вы, в относительном смысле оно мало, так как краткие периоды жизни разделяются миллиардами лет небытия. Но небытие не идет в счет субъективного времени, его как бы не существует. Существует как бы одна высшая сознательная и никогда не прекращающаяся счастливая жизнь. Чтобы получше понять это, поговорим об абсолютном и субъективном времени и его течении.
Абсолютное время – это то, которое наблюдается ровно живущим, не умирающим и не спящим существом. Существо это, конечно, воображаемое. Абсолютное время определяется часами, вращением небесных тел и другими естественными или искусственными хронометрами.
Субъективное время – нечто совсем иное. Это кажущееся время, испытываемое организмами. У одного и того же существа оно протекает с разною скоростью. Оно идет то быстро, то медленно – в зависимости от окружающих впечатлений, душевного состояния или состава мыслей. Оно зависит от характера деятельности мозга. Во сне оно протекает быстрее. Но и тут его ход зависит от обилия сонных видений. В крепком усыплении, без сновидений, субъективное время почти незаметно. Еще незаметнее оно в обмороке. Но часто и при обилии впечатлений в счастии время протекает незаметно (счастливые часов не замечают).
Мы не будем говорить о субъективном времени разных животных. У высших его течение, вероятно, подобно его течению у человека, а у низших его трудно представить. Возможно, что жизнь их – подобие сна человеческого. Понятие о времени у них слабо. Нет ни прошедшего, ни будущего, а есть только текущий момент. Нам и не так интересно субъективное время низших существ, так как космос, в общем, переполнен жизнью даже высшею, чем человеческая.
Для низшей жизни места почти не остается. И человеческое состояние, как мы видели, есть полуживотное, переходное, младенческое и занимает незаметное место в космосе.
Господствует зрелая жизнь, и она-то нас более всего интересует.
Также интересно представление о субъективном времени умерших, т.е. атома в неорганическом теле, атома в воздухе, воде, почве. Это еще более преобладающее состояние материи.
Тут мы видим более чем обморок, и потому течение времени тут совсем почти незаметно. Не только годы, но и миллиарды миллиардов лет пролетают как секунда живого существа. Можем ли мы после этого страшиться такого «неорганического» времени или считать его!
Итак, громадные периоды небытия как бы не существуют для атома, а существуют только периоды пребывания его в живой органической материи, главным образом в мозгу высших существ.
Как бы ни были коротки периоды жизни, повторяясь бесконечное число раз, они в сумме составляют бесконечное субъективное и абсолютное время. Оно никогда не прекращается и не прекращалось. Прошедшее так же беспредельно, как и будущее.
Поэтому течение высшей жизни любого атома не только не ограничено по времени, но и субъективно непрерывно. Оно непрерывно и в смысле того, что чувство жизни никогда не прекращается, хотя с каждой смертью или рождением испытывает резкую перемену. Атом всегда жив и всегда счастлив, несмотря на абсолютно громадные промежутки небытия или состояния в неорганическом веществе. Для мертвых нет времени и нельзя его считать. А так как воплощение неизбежно, ввиду всего сказанного и ввиду бесконечности времен, то все эти воплощения субъективно сливаются в одну субъективно-непрерывную прекрасную и нескончаемую жизнь.
Какой же вывод в применении к человеку, животному и всякому атому, в какой бы обстановке он ни находился?
С разрушением организма атом человека, его мозга или других частей тела (также со времени выхода атома из организма, что совершается много раз еще при его жизни) попадает сначала в неорганическую обстановку. Вычисление показывает, что в среднем надо сотни миллионов лет, чтобы он снова воплотился. Это время проходит для него как нуль. Его субъективно нет. Но население Земли в такой промежуток времени совершенно преобразуется. Земной шар будет покрыт тогда только высшими формами жизни, и наш атом будет пользоваться только ими.
Значит, смерть прекращает все страдания и дает, субъективно, немедленно счастье.
Если времени случайно протекло гораздо больше – биллионы биллионов лет, то и это нисколько не хуже для атома. Земли уже нет, атом воплотился на другой планете или других обителях жизни, не менее прекрасных.
Чрезвычайно мало вероятия, что атом воплотится на Земле через несколько сотен лет и потому войдет в состав еще не уничтоженных животных или несовершенного человека. Жизнь в растениях и низших существах не идет в счет, как почти неощутимая. Жизнь в более высоких организмах подобна сну, а жизнь в высших животных хотя и ужасна (с точки зрения человека), но субъективно несознательна. Корова, овца, лошадь или обезьяна не чувствует ее унижения, как не чувствует сейчас и человек унижения своей жизни, Но высшие существа смотрят на человека с сожалением, как мы на собак или крыс.
Когда люди поверят в возможность, хотя и малую, жить в образе животных, то они более будут стараться ликвидировать мир животных. Это есть легкая угроза нам за нашу жестокость к низшим земным существам.
Так же редко возможное существование атома в форме современного человека служит побуждением к его усовершенствованию и ликвидированию всех отставших родов.
Кто не думал всю жизнь над излагаемым, тому трудно ясно представить чувственные приключения атома. Но мы предложим сравнение, чтобы понять и оценить непрерывную и беспредельную жизнь атома.
Пренебрежем только младенческим периодом развития органической материи, прок которого и значение незаметны в космосе, как незаметна грязная микроскопическая пылинка на зеркале или на снежно-белом листе бумаги.
Представьте себе, что вся наша жизнь состоит из ряда радостных снов. Проснулся человек, подумал секунду о прекрасном сне и поспешил опять уснуть, чтобы снова погрузиться в блаженство. В каждом сне он забывает, кто он, и в каждом сне он новое лицо. То он воображал себя Ивановым, то Васильевым, то еще кем-нибудь. Второй сон не есть продолжение первого, и третий не есть продолжение второго. Также ни один сон не связан с предыдущим.
Но счастье налицо. Все сны прекрасны, они доставляют только радость и никогда не прекращаются. Всегда были, есть и будут.
Чего же вам надо? Вы непрерывно счастливы! Эта, легко воображаемая, картина даст некоторое понятие о жизни каждого атома Вселенной, где бы он ни находился. Мы дали глубокое представление о чувственной судьбе всего и всякого.
Когда говоришь об этом людям, то они оказываются недовольны. Они непременно хотят, чтобы вторая жизнь была продолжением предыдущей. Они хотят видеться с родственниками, друзьями, они хотят и пережитого. «Неужели я никогда не увижу жены, сына, матери, отца, – горестно восклицают они, – тогда лучше не жить совсем. Одним словом, ваша теория меня не утешает».
Но как же вы можете видеть своих друзей, когда представление о них – создание вашего мозга, который будет обязательно разрушен. Ни собака, ни слон, ни муха не увидят своего рода по той же причине. Не составляет исключения и человек. Умирающий прощается навсегда со своей обстановкой. Ведь она у него в мозгу, а он расстраивается. Она возникает, когда атом снова попадет в иной мозг. Он даст и обстановку, но другую, не имеющую связи с первой.
Ведь вы счастливы вашими очаровательными снами, просыпаетесь каждый раз с радостью, чтобы снова погрузиться в нее. Чего же вам надо? Сейчас вы желаете свидания с умершими, но смерть истребит и эти желания. Недовольство ваше только при жизни – уйдет жизнь, уйдет и оно.
Мы в предыдущей жизни имели друзей, но видим ли их в этой жизни! Говорим ли мы: вот человек, который мне хорошо известен, хотя я его никогда не видал и ничего про него не слыхал.
В новой жизни останется только счастье и довольство.
Как трудно отрешиться от рутины и сознать истину. Так же трудно, как почувствовать движение Земли!
Но есть и разница между рядом прекрасных, но не связанных между собою в одно целое снов и рядом действительных жизней атома.
Жизни эти сознательны, как жизни мудрецов, а не смутны и бестолковы, как сны. В промежутках между снами мы кое-что, хотя и недолго, чувствуем: именно единую жизнь.
В промежутках же между жизнями атома мы ничего не чувствуем, несмотря на их огромность. Они для нас не существуют. Жизнь атома субъективна, непрерывна, безначальна и бесконечна, так как все его частные жизни сливаются в одну. Каждая из частных жизней представляется в виде волны в бесконечном ряде волн.
Действительная жизнь – волна – имеет начало и конец, и есть один период из множества их.
Все эти периоды, в сущности, довольно однообразны: счастье, довольство, сознание Вселенной, сознание своей нескончаемой судьбы, понимание истины, которая есть верный путь к поддержке космоса в блестящем состоянии совершенства.
Но каждая волна имеет начало и конец. Это – зарождение и угасание, зачатие и распадение. В последующей волне они повторяются. Однако никак нельзя считать эти волны тождественными. Волны могут быть очень длинны, т.е. период одной жизни может быть очень велик – продолжаться сотни и тысячи лет, но это для атома решительно все равно, так как и короткие волны жизни, сливаясь в одну, дают бесконечность. Смертных же мук не будет. Только жизнь организма, несмотря на это, не должна быть короткой, чтобы существо в течение ее могло достичь высокого развития и принести обильные плоды. Что толку в дорогой машинке, которая портится и бросается через два часа!
1. Мы сомневаемся во всюду распространенной жизни. Конечно, на планетах нашей системы возможно если не отсутствие жизни, то ее примитивность, слабость, может быть, уродливость и во всяком случае отсталость от земной, как находящейся в особенно благоприятных условиях температуры и вещества. Но млечные пути, или спиральные туманности, имеют каждая миллиарды солнц. Группа же их заключает миллионы миллиардов светил. У каждого из них множество планет, и хотя одна из них имеет планету в благоприятных условиях. Значит, по крайней мере миллион миллиардов планет имеют жизнь и разум не менее совершенные, чем наша планета. Мы ограничились группой спиральных туманностей, т.е. доступной нам Вселенной. Но ведь она безгранична. Как же в этой безграничности отрицать жизнь?
Какой бы смысл имела Вселенная, если бы не была заполнена органическим, разумным, чувствующим миром? Зачем были бы бесконечные пылающие солнца? К чему их энергия? Зачем она пропадает даром? Неужели звезды сияют для украшения неба, для услаждения человека, как думали в средние века, времена инквизиции и религиозного безумия?
2. Мы склонны думать также, что наиболее высокое развитие жизни принадлежит Земле. Но животные ее и человек сравнительно недавно зародились и пребывают сейчас в периоде развития. Солнце еще просуществует как источник жизни биллионы лет, и человечеству предстоит в этот невообразимый период идти вперед и прогрессировать – в отношении тела, ума, нравственности, познания и технического могущества. Впереди его ждет нечто блестящее, невообразимое. По истечении тысячи миллионов лет ничего несовершенного вроде современных растений, животных и человека на Земле уже не будет. Останется одно хорошее, к чему неизбежно приведет нас разум и его сила <... >
4. Иные думают: мы имеем годы жизни и дециллионы лет небытия! Не есть ли это, в сущности, небытие, так как бытие в массе небытия незаметно и то же, что капля в океане воды?
Но дело в том, что – небытие не отмечается временем и ощущением. Поэтому оно как бы не существует, а существует одна жизнь. Кусочек материи подвержен бесчисленному ряду жизней, хотя и разделенных громадными промежутками времени, но сливающихся субъективно в одну непрерывную и, как мы доказали, прекрасную жизнь.
Что же выходит? А то, что общая биологическая жизнь Вселенной не только высока, но и кажется непрерывной. Всякий кусочек материи непрерывно живет этой жизнью, так как промежутки долгого небытия проходят для него незаметно: мертвые не имеют времени и получают его только тогда, когда оживают, т.е. принимают высшую органическую форму сознательного животного.
Может быть, скажут: разве доступна органическая жизнь центрам солнц, планет, газовых туманностей и комет? Не обречена ли их материя на вечную смерть, т. е небытие? И Земля, и мы, и все люди, и вся органическая современная жизнь Земли были когда-то веществом Солнца. Однако это не помешало нам выбраться оттуда и получить жизнь. Материя непрерывно перемешивается: одни ее части уходят в солнца, а другие выходят из них. Всякой капле вещества, где бы она ни находилась, неизбежно придет очередь жить. Ждать ее придется долго. Но это ожидание и огромное время существуют только для живого и есть их иллюзия. Наша же капля не испытает мучительного ожидания и не заметит биллионов лет.
Опять говорят: я умру, вещество мое рассеется по всему земному шару, как же я могу ожить?
До вашего зарождения вещество ваше тоже было рассеяно, однако это не помешало вам родиться. После каждой смерти получается одно и то же – рассеяние. Но как мы видим, оно не препятствует оживлению. Конечно, каждое оживление имеет свою форму, несходную с предыдущими. Мы всегда жили и всегда будем жить, но каждый раз в новой форме и, разумеется, без памяти о прошедшем.
5. Грядущие тысячи и миллионы лет усовершенствуют природу человека и его общественную организацию. Человечество обратится как бы в одно могущественное существо под управлением своего «президента». Это самый лучший из всех людей в физическом и умственном отношении. Но если члены общества высоки по своим качествам, то как же высок высший, научно избранный из них?
Так организуются неизбежно населения и других планет.
Могущественному населению высшей планеты каждой солнечной системы будут доступны не только планеты этой системы, но и все околосолнечное пространство. Оно эксплуатируется на пользу населения, как и вся солнечная энергия. Ясно, что одна планета есть кроха в солнечной системе. Она не составляет центра. Население рассеивается по всему околосолнечному пространству. Объединению подлежит не только каждая планета, но и вся их совокупность и все эфирное население, живущее вне планет и в искусственных жилищах. Итак, после объединения каждой планеты неизбежно настанет объединение каждой солнечной системы.
Могущество их так велико, что они сносятся между собою не только особыми телеграммами, но и лично, непосредственно, как знакомые. Тысячи лет требуются для этого путешествия, но и тысячи лет живут иные жители солнечных систем, ибо миллиарды лет грядущего развития любой планеты дадут населению каждой и неопределенно долгую жизнь. Катастрофы солнц, их взрывы, повышения и понижения температур заставляют население всё предвидеть и всё знать о соседних солнцах, чтобы заранее удаляться от угрожающей опасности.
Образуется союз ближайших солнц, союз союзов и т.д. Где предел этим союзам – трудно сказать, так как Вселенная бесконечна.
Мы видим бесчисленное множество «президентов» разной степени совершенства. А так как этих категорий без конца, то нет и пределов совершенству личному – индивидуальному...
6. Мы говорили пока только о вещах и существах из обычной материи. Она содержит 92 или более элементов, а последние составлены из соединения водородных атомов.
Итак, мы говорили про водородных существ, про водородный мир.
Но нет ли еще какого-нибудь другого вещества? Есть у нас такое вещество – малопостижимый светоносный эфир, заполняющий все пространство между солнцами и делающий материю и Вселенную непрерывной.
Есть основания предполагать, что солнца и вообще все тела теряют материю тем сильнее, чем они горячее. Куда девается эта материя? Мы думаем, что она переходит или разлагается на более простую и упругую, которая и распространяется в космосе. Может быть, это есть эфир или другое неводородное вещество.
Но откуда же появились солнца, газообразные туманности и весь водородный мир? Если материя разлагается, то должен быть и обратный процесс – ее синтеза, т.е. образования из ее обломков вновь известной нам водородной материи 92 сортов.
Обратимость мы наблюдаем во всех механических, физических, химических и биологических явлениях. Нужно ли об этом говорить? Кому не известны явления обратимости, кругового процесса, когда разрушенное вновь возникает? Подразумеваю это явление в широком значении, в приблизительном, а не точно математическом, потому что точно ничего не повторяется. При этих явлениях, однако, соблюдается закон сохранения энергии. Но тут вмешивается скрытая потенциальная внутриатомная энергия вещества, и явление иногда запутывается. Так радиоактивность на первых порах запутала ученых. Приведем простейшие приметы обратимости. Большая скорость тел переходит в малую и обратно. Из жидкости получается пар и обратно. Происходит химическое соединение и обратно. Все 92 элемента разлагаются на водород, а из последнего получается 92 элемента. Органическая материя переходит в неорганическую, а неорганическая – в органическую.
Так, вероятно, и разложение солнц в одном месте сопровождается образованием их в другом.
Раз обратимость так обычна, то почему не допустить ее и в деле разрушения водородной материи? Она обращается в энергию, но надо думать, что энергия – особый вид простейшей материи, которая рано или поздно опять даст известную нам водородную материю.
Что же такое есть самый атом водорода – начало всего известного вещественного мира?
Он создан прошедшим временем, а оно бесконечно велико. Следовательно, и атом бесконечно сложен. У водорода были более простые родители, еще более простые деды и т.д.
Не подобно ли этому происхождение человека? Не были ли его предки все более и более простыми по мере удаления от нашего времени? Родоначальник человека – водород, а более близкие предки – 92 элемента. Но человек отдален от этих предков всего на несколько сотен миллионов или миллиардов лет. Это так мало в сравнении с бесконечностью! Каковы же были предки водорода несколько дециллионов лет назад?
Одним словом, если разделить бесконечное время на ряд бесконечностей, то каждой из этих бесконечностей будет соответствовать своя материя, свои солнца, свои планеты и свои существа...
Осталось ли что-нибудь от прежних эпох: более простая материя, легкие эфирные существа и т.д.? Мы видим световой эфир. Не есть ли это один из осколков первобытной материи? Мы видим порою необыкновенные явления. Не есть ли они результат деятельности уцелевших разумных существ иных эпох?
Возможно ли, чтобы остались следы их? Приведем пример. Наши земные существа стали возникать со времени остывания земной коры. Но одни из них доросли до высших животных, а другие остались теми же инфузориями и бактериями, какими и были. Время-то прошло одно и то же, но какое различие в достижениях! Так, может быть, часть вещества каждой эпохи оставила некоторое количество и свойственной ей материи, и свойственных ей живых существ?..
7. Резюмируем изложенное:
А. По всей Вселенной распространена органическая жизнь.
Б. Наиболее важное развитие жизни принадлежит не Земле.
В. Разум и могущество передовых планет Вселенной заставляют утопать ее в совершенстве. Короче, органическая жизнь ее, за незаметными исключениями, зрела, а потому могущественна и прекрасна.
Г. Эта жизнь для каждого существа кажется непрерывной, так как небытие не ощущается.
Д. Всюду в космосе распространены общественные организации, которые управляются «президентом» разного достоинства. Один выше другого, и таким образом нет предела личному или индивидуальному развитию. Если нам непонятно высок каждый зрелый член космоса, то как же непостижим «президент» первого, второго, десятого, сотого ранга?
Е. Бесконечность истекшего времени заставляет предполагать существование еще ряда своеобразных миров, разделенных бесконечностями низшего порядка. Эти миры, усложняясь, оставили часть своего вещества и часть своих животных в первобытном виде.
8. Отсюда видна бесконечная сложность явлений космоса, которую, конечно, мы не можем постигнуть в должной мере, так как она еще выше, чем мы думаем. По мере расширения ума увеличиваются знания и раскрывается для него Вселенная все более и более...
 В.И. Вернадского справедливо называют Ломоносовым XX в. Редкая синтезирующая способность, всеохватность отличают его творческий гений. Ученый основал и развил несколько новых научных дисциплин, стал создателем учения о биосфере и переходе ее в новое качество – ноосферу. Академик Петербургской АН, а затем АН СССР, член многочисленных зарубежных академий, Вернадский был и крупным общественным деятелем, выдающимся организатором науки в нашей стране. Великий естествоиспытатель-мыслитель, он оставил нам целостное ви́дение мира и задач человека разумного, предсказав будущие пути его развития.
В.И. Вернадского справедливо называют Ломоносовым XX в. Редкая синтезирующая способность, всеохватность отличают его творческий гений. Ученый основал и развил несколько новых научных дисциплин, стал создателем учения о биосфере и переходе ее в новое качество – ноосферу. Академик Петербургской АН, а затем АН СССР, член многочисленных зарубежных академий, Вернадский был и крупным общественным деятелем, выдающимся организатором науки в нашей стране. Великий естествоиспытатель-мыслитель, он оставил нам целостное ви́дение мира и задач человека разумного, предсказав будущие пути его развития.
Вернадский прожил долгую жизнь, захватив разные и чуть ли не контрастные общественные и культурные эпохи, пройдя сквозь резкие исторические сломы и повороты. Родился он 12 марта 1863 г. в Петербурге в семье либерального профессора политэкономии Ивана Васильевича Вернадского от второго его брака с Анной Петровной Константинович, дочерью украинского помещика, бывшей в молодости хоровой певицей и вокальным педагогом. Корни рода Вернадских уходят на Украину, вплоть до казаков Запорожской Сечи. Со стороны отца Владимир Иванович был троюродным братом известного писателя В.Г. Короленко. Детство Владимир провел в Харькове, там же поступил в гимназию, а летом с семьей выезжал в гостеприимную, теплую среду многочисленных полтавских родственников. На всю жизнь он сохранил привязанность к языку, истории и культуре родного края, специально ими занимался и при всем, можно сказать, планетарном универсализме своего мировоззрения оставался в сокровенной сердечной глубине украинским патриотом. Формировала юного Владимира культурно и общественно возбужденная атмосфера ближайшего семейного окружения. Среди них выделялась оригинальная личность его дяди Евграфа Максимовича Короленко, многообразно развившего себя автодидакта, поклонника звездного неба; туда же обратил он воображение и мысль своего любимого племянника. Особый душевный след оставил и старший сводный брат Владимира Николай, сын рано умершей от туберкулеза первой жены Ивана Васильевича, замечательной русской публицистки, борца за женские права Марии Николаевны Шигаевой. Любимец семьи, необычайно одаренный юный художник и поэт, Николай был первым учителем младшего брата в чтении и письме, он же увлек его в горние области человеческого духа, стал первым его вожатаем по мировой культуре. Получив от Николая решающий толчок к личностному самоуглублению, Владимир Иванович с детства начинает вести подробные дневники, что продлится до самой его смерти. В результате такого непрерывного самоотчета Вернадский не оставил за порогом памяти и рефлексии ничего по-настоящему важного в своей жизни, выстроил ее и оставил потомкам как цельное произведение (в последние годы все больше его фрагментов начинает появляться в нашей печати).
Эти дневники обнаруживают такие неожиданные стороны его личности, в том числе и складывающейся, какие иначе были бы совершенно неуловимы за внешне доступным обликом. Именно из записей Владимира Ивановича выясняется, как потрясла его, 11-летнего мальчика, безвременная кончина 22-летнего брата Николая. Более того, как это ни странно, возможно, именно в переживаниях этого времени лежит глубинная экзистенциальная первопричина его будущей всецелой обращенности к науке. Оказывается, с раннего детства Владимир был наделен странными, пугавшими его самого качествами: он страдал наследственным лунатизмом, ему было дано во сне и наяву вызывать образы дорогих людей, причем в яркой, галлюцинаторной форме, и вступать с ними в контакт. Сразу после смерти брата, с которым его соединяла такая интимная душевная связь, он вначале «из-за страха» (его собственное объяснение в поздних дневниках) стал решительно глушить в себе такого рода «мистические» рецепторы и к университетским годам вполне в этом преуспел. Сознательно закрыв для себя «область каких-то неизведанных и не известных в своей основе переживаний», Владимир Иванович как бы рационализировал свою природу, атрофировал в ней редкие парапсихологические возможности; он выбрал путь углубления не в таинственное и загадочное в человеческой психике, а в многообразие окружающей живой и неживой природы, ее закономерностей, выбрал трезвое научное знание. Тут было некое бегство от себя, собственных иррациональных бездн, всяческой интроспекции и субъективности навстречу безусловной объективности мира – и он это понимал. «Я что-то остановил в своей природе. Иногда жалею, что погасил, а не развил эту способность... Твердо и ясно сознаю, что какая-то сторона ви́дения мною в моей личности остановлена», – писал Вернадский в дневнике 11 июня 1931 г. (Однако по тем же дневникам мы узнаем, что вытесненная способность общения с образами ушедших из жизни близких вернулась к нему незадолго до смерти.) Итак, Владимир Иванович рано решил для себя: «по двум путям углубляться невозможно». Это впечатление сознательного самоограничения, предельной дисциплинированности, плодотворной целеустремленности лежит на всей его личности и жизни, вплоть до самых бытовых их проявлений. Это был человек, в высокой степени следовавший предписанным себе строгим правилам нравственной и творческой гигиены.
В 1876 г. Вернадские возвращаются в имперскую столицу, где Владимир оканчивает гимназию и в 1881 г. поступает на физико-математический факультет университета, блиставшего в то время исключительным созвездием таких светил русской науки, как Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, И.М. Сеченов и другие. Вернадский проходит у них редкую по основательности и творческой свободе школу. В университете родилось и укрепилось столь свойственное Вернадскому – ученому и мыслителю чувство и сознание сопряженности своих научных и философских забот с усилиями живших в веках и искавших в том же направлении людей. Когда мы входим в разнообразный мир духовного наследия Вернадского (в тексты его монографий и статей, речей и записок, дневников и писем), нас поражают многие вещи и среди них, может быть, больше всего чрезвычайная бережность, даже пиетет к чужой мысли, чужому научному достижению и предвидению. По всем важнейшим вопросам Вернадский выстраивает досконально прослеженные генеалогии идей и догадок, эмпирических обобщений и теорий. За этим встает и скрупулезная научная честность, но главное – чувство живой причастности к единой семье строителей мировой культуры, проходящей через поколения и народы. Его учителя и коллеги, его товарищи и собеседники – не только современники, рядом живущие и работающие, но и духовные труженики веков человеческой истории: Аристотель и Кант, Ломоносов и Тютчев, Гёте и Рамакришна, Гюйгенс и Пастер, не говоря уже о целой плеяде геологов, химиков, биологов, особенно близких русскому создателю биогеохимии.
Университетские годы стали и периодом окончательной кристаллизации нравственного облика Владимира Ивановича. Он находит себе ближайших друзей-единомышленников, которые составили своего рода духовную общину, получившую позднее название «Братство». Среди них были будущие крупные деятели русской культуры: историки А.А. Корнилов и И.М. Гревс, геоботаник А.Н. Краснов, индолог, академик С.Ф. Ольденбург, его брат Ф.Ф. Ольденбург, педагог-просветитель, общественный деятель и писатель Д.И. Шаховской. Особую сердечную теплоту вносили в «Братство» и несколько замечательных, широко образованных женщин, подруг жизни своих товарищей-мужчин, среди них была и будущая жена Владимира Ивановича – Наталья Егоровна Старицкая, с которой он соединил свою судьбу в 1886 г.
Тридцать пять лет неукоснительно соблюдались два простых правила, внешне скреплявшие членов этой свободной общности: регулярные письма друг другу и обязательный ежегодный (30 декабря) сбор. Но главное – было создано мощное нравственное поле общих идеалов, духовной и душевной поддержки, строгой товарищеской оценки и – при необходимости – взаимной коррекции, в котором каждый жил и действовал. Идеалы «Братства»: высшую ценность человеческой личности, работу на просвещение народа, демократизм, отвращение к насильственным методам утверждения своих взглядов – его члены пронесли через всю жизнь, у кого более короткую, у кого более длинную, через все испытания эпохи.
Самым главным своим учителем Вернадский считал Василия Васильевича Докучаева (1846–1903), основателя новой науки – генетического почвоведения, автора гениального учения о почве. В своем классическом труде «Русский чернозем» он первым доказал, что почва – «естественноисторическое, вполне самостоятельное тело», продукт совместной деятельности во времени ряда факторов, среди которых центральный – жизнедеятельность растительных и животных организмов. Этот оригинальнейший ученый и мыслитель, мечтавший о синтетическом естествознании, которое сумеет соединить в единой взаимосвязи живую и мертвую природу, дал генеральное направление научным дерзаниям Вернадского.
О многообразии научной и организаторской деятельности ученого говорят скупые факты биографии: после окончания университета – хранитель его минералогического кабинета, с 1890 г. – профессор минералогии и кристаллографии Московского университета, через семь лет – защита докторской диссертации, начало работ по геохимии, переезд в Петербург в 1911 г. и избрание академиком через год, затем – с 1915 г, – глава созданной им Комиссии по изучению естественных производительных сил России, а после революции, с 1918 г., – первый ректор организованной им Украинской академии наук, потом, с 1921 г., директор основанного им Радиевого института, а с 1929 г. и первой в мире биогеохимической лаборатории...
В.И. Вернадский создает целый комплекс наук о Земле – от генетической минералогии до биогеохимии, радиогеологии, учения о биосфере. Недаром говорили, что он в своем лице может представлять целую академию. Все это плод огромного новаторского исследовательского синтеза, и тем не менее в нем можно увидеть одушевленность теми первичными научными и философскими интуициями, которые были рождены в нем плодотворным общением со своим учителем – в аудитории, в кабинете, в поле.
Вернадский принципиально отверг старый биологический подход, преимущественно державший в своем исследовательском фокусе тот или иной живой организм, выделенный из окружения, из сферы живого. Если такой подход и признавал влияние среды на организм, то не понимал в полном объеме обратного формирования самой этой среды всем живущим в ней. Биогеохимия выдвинула на первое место понятие жизни как организованной совокупности живого вещества, исходя из которого можно понять конкретное ее явление. Вернадский показал, что вещество планеты (а оно то же и в космосе) образуется в круговороте «мертвое – живое – мертвое», что «биогенные породы (то есть созданные живым веществом) составляют огромную часть ее (биосферы. – С. С.) массы, идут далеко за пределы биосферы... они превращаются, теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку», т.е., условно говоря, косное во многом и биокосное вещество, как бы «труп» живого. «Геохимия доказывает неизбежность живого вещества для этого круговорота всех элементов и тем ставит на научную почву вопрос о космичности, вселенности живого вещества», – обобщал Вернадский свой взгляд в монографии «Живое вещество», так и не увидевшей полностью свет при его жизни. В ней было высказано принципиальное для ученого убеждение, что жизнь – такая же вечная составляющая бытия, как материя и энергия.
Существеннейшая коррекция утвердившейся научной картины мира, где не было места жизни, явилась Вернадскому как озарение и открытие летом 1917 г., можно сказать, в естественной лаборатории, на лоне природы, в кишении тварей на хуторе в Шишаках под Полтавой. (Здесь была его летняя дача, которую он приобрел незадолго до того.) Собственно все его учение о живом веществе, о биосфере, новые, введенные им понятия-термины, такие, как всюдность жизни, давление жизни, скорость ее, сгущения жизни, были им разработаны этим летом. Он пережил состояние высочайшего подъема и вдохновения, какое, может быть, только однажды выпадает творцу. А в последующие три года уже додумал и сформулировал новое биогеохимическое мировоззрение. Оно дало ему такую неожиданную натурально-онтологическую «оптику» на всё в мире, даже на происходившие тогда в России невиданные социальные потрясения, которая помогла ему лично пережить период тягчайших житейских испытаний. И не только пережить, а превратить его по существу в самый плодотворный этап своей жизни.
Что же это были за испытания? В конце ноября 1917 г., после прихода к власти большевиков, он вынужден срочно покинуть столицу, ему грозит арест. Ведь он был одним из организаторов либеральной партии конституционных демократов (кадетов), бессменным членом ее Центрального комитета, а затем входил в состав Временного правительства как заместитель министра народного просвещения, которым был его друг С.Ф. Ольденбург (1863–1934). Вернадский уезжает на родную Украину и здесь, несмотря на чехарду сменяющихся властей, ухитряется вести огромную работу по спасению науки и культуры и даже по их возрастанию, организуя Украинскую академию. Странствия Владимира Ивановича с семьей по югу России, связанные с перипетиями гражданской войны, приводят его в Крым, где он участвует в основании Таврического университета в Симферополе, с весны 1920 г. уже читает там курс своей новой науки – геохимии, а осенью избирается ректором. Но до того, в начале года, он переносит сыпной тиф, который едва не стоит ему жизни. Интересна дневниковая запись, сделанная Владимиром Ивановичем во время этой болезни. Он рассказывает об удивительном состоянии, пережитом им в полубреду, между сном и явью, когда мысль и вещая фантазия его были предельно раскалены: именно тогда он «почувствовал в себе демона Сократа», преисполнился сознанием поистине эпохального значения своего учения и, более того, как в волшебном фонаре, перед ним прошли его возможная будущая жизнь, главное ее дело – организация Института живого вещества и даже знание предельного срока земного бытия – 83-85 лет. В последнем Владимир Иванович не намного ошибся: он умер в 82 года, да собственно и основное, пусть не в столь грандиозном объеме и не в тех, как это ему привиделось, «локальных» деталях, но осуществилось. В 1921 г. благодаря покровительству наркома здравоохранения Н. Семашко, бывшего в свое время учеником Вернадского, он возвращается в Петроград, получает, по существу, индульгенцию от властей за свои прежние политические «грехи» и включается в напряженную научную и организаторскую работу.
Важный эпизод его биографии – командировка во Францию, где в 1922–1926 гг. он читает курс лекций по геохимии в Сорбонне. Здесь же он работает в институте Кюри с препаратами радия, приводит в порядок свои огромные рукописи по живому веществу, вычленяет из них отдельные работы, ряд которых публикует на французском языке: здесь же готовится текст его классического труда «Биосфера», его он публикует сразу же по возвращении в Ленинград. В Париже он лично знакомится с философами Эдуардом Леруа и Тейяром де Шарденом, чуть позднее вникает в их идеи о ноосфере, прежде всего через лекционный курс Леруа, опубликованный в 1928 г. в книге «Происхождение человека и эволюция разума». Сам Владимир Иванович так представлял духовную последовательность возникновения учения о ноосфере (что неоднократно и высказывал): биогеохимический подход к ноосфере, предложенный им парижской аудитории, оплодотворяет мысль французских философов, делающих следующий шаг, принятый уже в свою очередь им самим. Ноосферные идеи Вернадский развивал в основном в 30-е гг., прежде всего в работе «Научная мысль как планетное явление», которая мыслилась им как своего рода огромное философское предисловие к итоговой, «главной книге», над которой он тогда же работал: «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (оба произведения увидели свет только в 60-70-х гг). Колоссальное изменение порядка вещей, какое происходит от вторжения человека в природу, он ставит здесь на точную научную основу, введя понятие культурной биогеохимической энергии. В целом биогеохимическая энергия – это свободная энергия, образуемая жизнедеятельностью природных организмов (живого вещества); она вызывает миграцию химических элементов биосферы и тем формирует ее историю. С возникновением человека разумного живое вещество явило такой небывалый по сложности и силе вид энергии, который стал вызывать не сравнимую с иными формами миграцию химических элементов. Обычная биогеохимическая энергия живого вещества производится прежде всего путем размножения. Однако отличительным «видовым признаком» человека стала форма энергии, «связанная с разумом». настолько неудержимо растущая и эффективная, что, по мнению ученого, несмотря на свое колыбельное, можно сказать, «младенчество» относительно земных эпох. эта энергия уже стала главным фактором в геологической истории планеты. Создалась, 110 сильному выражению Вернадского, «новая форма власти живого организма над биосферой», дающая возможность «целиком переработать всю окружающую его природу». переработать – в смысле преобразить и одухотворить, что и является основной целью нового творческого, духовного зона бытия – ноосферы.
Однако уже по возвращении Вернадского из Парижа наступают все более жесткие времена и для страны в целом, и для науки; к 1929 г. академия теряет свое самоуправление свою хотя бы относительную независимость, в ее ряды вводится большой отряд философов-марксистов, «красных академиков», призванных блюсти чистоту идейных риз всех наук. Вернадский – с его учением о живом веществе и вечности жизни, с его идеями о биологическом времени, качественно отличном от физико-механического, с его отношением к науке, как исканию истины, достижения которой «бесклассовы» и всеобщеобязательны, – стал одной из первых мишеней этих бдительных философских «комиссаров», от И. Презента до А. Деборина. Он был объявлен «знаменем всех реакционных сил», виталистом, мистиком, антиматериалистом и т.д. Всячески тормозится деятельность биогеохимической лаборатории, репрессированы ближайшие ученики Владимира Ивановича. Сам он все эти годы сохраняет удивительную трезвость и глубину в понимании того, что происходит в стране. Об этом свидетельствуют все шире публикуемые его дневники и переписка. Его изначальное неприятие «социалистической схоластики», «моральных основ коммунизма», «насилия над человеческой личностью», «исключительного морального и умственного гнета» (выражения из писем 20-х гг. к И.И. Петрункевичу) усугубляется; перед глазами – зрелище все большей «варваризации» жизни и культуры, разлад и упадок научной работы, не говоря уже о бессмысленном массовом уничтожении лучшей части народа. Он пытается сколько можно материально и морально помогать ссыльным, проявляет большую личную смелость, протестуя и ходатайствуя по их поводу перед власть имущими. За несколько месяцев до смерти он пишет в дневнике об «унижении жить в такой стране, где возможно отрицание свободы мысли». И тем не менее Вернадский сознательно остался со своей страной, понимая, что ее возможное будущее спасение и возрождение в том, чтобы, несмотря ни на что, поддерживать ее интеллектуальный и духовный потенциал, не прерывать течения и развития научного исследования и поиска, чему сам он в немалой мере и способствовал, несмотря на то что дорогие ему научные идеи попирались, труды его печатались в мизерных дозах, к тому же приправленных редакционными оговорками и открещиваниями. До 1938 г. его довольно часто выпускали в зарубежные командировки, а его дети жили в эмиграции: сын Георгий был профессором кафедры истории Йельского университета в США, дочь, врач-психиатр, вышедшая замуж за археолога Н.П. Толля, обосновалась в Праге – и каждый из них настойчиво звал отца и мать к себе. Но Владимир Иванович неизменно возвращался домой. Но, возможно, его не постигла трагическая судьба Николая Ивановича Вавилова (которая потрясла Вернадского) по одному только обстоятельству. Его вредные «чудачества» власти терпят скорее всего потому, что он ведь организатор и директор еще и Радиевого института, да и председатель Комиссии по изучению тяжелой воды, один из самых крупных ученых в области, считающейся государством стратегической.
Последние годы его жизни приходятся на войну. Вместе со старейшими академиками его эвакуируют в Боровое в Казахстане, где он занимается уже делами финальными: составляет хронику своей жизни, историю зарождения и развития своих идей и практических дел. Он сознательно готовился к уходу из жизни и так же последовательно и методично, как всё делал в жизни, подводит под ней черту. Но его еще ждет тяжкое личное испытание: 3 февраля от внезапной болезни умирает его самый близкий друг и помощник Наталья Егоровна, с которой они прожили душа в душу 57 лет. Тем не менее с помощью своего секретаря Анны Дмитриевны Шаховской, дочери его погибшего в заключении в 1939 г. друга Дмитрия Шаховского, он продолжает упорно работать над хроникой и пишет свою последнюю статью, краткий конденсат его сокровенных верований – «Несколько слов о ноосфере». Умирает Владимир Иванович в Москве 6 января 1945 г., от кровоизлияния в мозг, так же как и его отец. Он последним из «Братства» покинул этот мир.
И только почти через 15 лет, в 1959 г., состоялись первые чтения его имени в Институте геохимии, созданном на базе любимого детища Вернадского – биогеохимической лаборатории. Первые книги из богатейшего рукописного наследия ученого стали появляться еще через десять лет, и вместе с ними начал выплывать из забвения и непонимания огромный материк Вернадского, величайшего натуралиста-мыслителя не только XX в., но и всех веков истории научного знания.
В биосфере существует великая геологическая, быть может космическая, сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе, представлениях научных или имеющих научную основу.
Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или новая особенная ее форма. Она не может быть во всяком случае просто и ясно выражена в форме известных нам видов энергии. Однако действие этой силы на течение земных энергетических явлений глубоко и сильно и должно, следовательно, иметь отражение, хотя и менее сильное, но несомненно и вне земной коры, в бытии самой планеты. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного. Проявление этой силы в окружающей среде явилось после мириада веков выражением единства совокупности организмов – монолита жизни – «живого вещества», одной лишь частью которого является человечество.
Но в последние века человеческое общество все более выделяется по своему влиянию на среду, окружающую живое вещество. Это общество становится в биосфере, т.е. в верхней оболочке нашей планеты, единственным в своем роде агентом, могущество которого растет с ходом времени со все увеличивающейся быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с возрастающей быстротой структуру самых основ биосферы. Оно становится все более независимым от других форм жизни и эволюционирует к новому жизненному проявлению.
Человек, несомненно, неразрывно связан с живым веществом, с совокупностью организмов, одновременно с ним существующих или существовавших до него. Прежде всего он связан с ними своим происхождением.
Как бы далеко мы ни углубились в прошлое, мы можем быть уверенными, что встретим в нем живые поколения, несомненно генетически связанные одни с другими.
Мы, без сомнения, встретим в этом прошлом много более 10 000 последовательных поколений, от отца к сыну, вида Homo sapiens, которые по существу своему не отличаются от нас ни своим характером, ни своей внешностью, ни полетом мысли, ни силой чувств, ни интенсивностью душевной жизни. Более 200 поколений уже сменили друг друга со времени зарождения в человеческом обществе sz189еликих построений религии, философии и науки. Несколько сотен поколений нас отделяют от эпохи, в которую появились первые зародыши человеческого искусства, музыки, мифов, магии, из которых выросли религия, наука, философия.
Но происхождение человека таится еще в более отдаленных глубинах времени. След предков теряется во мраке неизвестности. Их формы, их организмы были иные, чем наши, но главный факт – последовательная смена поколений, материально связанных, от матери к сыну – остался незыблемым. Наша связь с этими существами, на нас не похожими, самая реальная, какая только возможна. Их прошлое существование не есть фикция.
Как бы далеко наша мысль или наши научные исследования ни уходили в геологическое прошлое Земли, мы констатируем то же явление существования в земной коре единого целого жизни, ее непрерывного и единого проявления. Мы видим жизнь, которая извека в своих неделимых погасает и вновь сейчас же зажигается.
Около сотни поколений сменили друг друга с той поры, как мысль великих греков остановилась перед этим явлением, произведшим на нее впечатление самой глубокой космической тайны. Эта загадка осталась для нас, далеких потомков этих людей, одаренных могучей, проникающей мыслью, столь же неразрешенной, какой была для них.
Около десяти поколений до нас великий флорентийский натуралист Ф. Реди <1626–1698>, врач, поэт, человек высокой духовной культуры, первый высказал новую мысль, которая, вероятно, от времени до времени приходила в голову одиноким мыслителям прошлых поколений, но оставалась скрытой. Эта революционная идея была высказана, но не охватила умы людей того времени. Они, очевидно, не были подготовлены к ее восприятию. Ф. Реди утверждал: всякий живой организм происходит от другого живого же организма. Мысль эта была выражена этими словами другим итальянским натуралистом – А. Валлисниери <1661–1730> – через одно поколение после Ф. Реди.
Принцип Реди вошел в научное сознание лишь в XIX в., почти через девять поколений после его смерти. Его окончательно ввел в наше построение космоса Л. Пастер <1822–1895>, великий француз, человек родственного умственного и душевного склада с Ф. Реди.
Без сомнения, нужно представлять себе в геологии человечество в виде миллионов последовательных поколений существ, следующих друг за другом от матери к сыну без перерыва, существ, морфология и функции которых от времени до времени подвергались резкому изменению. Очень вероятно, что продолжительность жизни наших далеких предков была короче нашей. Учет времени по последовательности поколений человека и его предков приводит нас к невероятным числам, превышающим наше воображение.
Западное человечество последовало по пути, раскрытому для мысли Ф. Реди и Л. Пастером, лишь неохотно и с большим усилием.
Идеи о вечности жизни, отрицание ее начала, мысль о непереходимом – в аспекте известных физико-химических явлений -различии, существующем между косной и живой материей, были в полнейшем противоречии с навыками его мысли, с его мировоззрением. Идеи о начале и конце видимого космоса, всего материального мира, так же как о реальном единстве всего существующего, оставили глубокий след на его умственном складе.
Самозарождение, т.е. генезис живого организма за счет косной материи, без посредства другого живого организма, многим ученым все еще кажется логично необходимым; он им кажется неизбежным следствием из геологической истории нашей планеты, необходимым для научного объяснения жизни. С глубокой верой высказывались и высказываются убеждения, что прямой синтез организма из его материальных элементов должен быть необходимым завершением развития науки. Не сомневаются в том, что был момент (если, впрочем, этот процесс не имеет места и в наше время), в который организм зародился в земной коре в силу самопроизвольного изменения косной материи.
Нужно не терять из виду, что эти воззрения коренятся не в научных фактах, но в построении религии и философии.
Конечно, возможно, что они соответствуют реальности. Нельзя их считать научно опровергнутыми. Но ничто не указывает на их вероятность. Ничто также не указывает на то, что проблема самозарождения не принадлежит к тому же ряду исканий, как и задача о квадратуре круга, о трисекции угла, о perpetuum mobile, о философском камне*245. Стремление разрешить все эти проблемы было не бесплодно, оно имело очень важные последствия. Оно привело к великим новым открытиям, но самые проблемы оказались нереальными.
Оставаясь на почве науки, мы должны признать, что:
1) нигде и ни в каких явлениях, происходящих или когда-либо имевших место в земной коре, не было найдено следов самозарождения жизни;
2) жизнь, какой она нам представляется в своих проявлениях и в своем количестве, существует непрерывно со времени образования самых древних геологических отложений, со времени архейской эры;
3) нет ни одного организма среди сотен тысяч различных изученных видов, генезис которого не отвечал бы принципу Реди.
Если самозарождение жизни не фикция, созданная нашим умом, оно может осуществляться лишь вне области известных нам физико-химических явлений. Лишь открытие каких-либо неожиданных явлений могло бы нам доказать его реальность, как открытие радиоактивности доказало потерю веса материи и разрушение атома, которые могут проявляться лишь вне области физико-химических явлений, до той поры изученных.
В настоящее время мы не можем с научной точки зрения рассматривать жизнь на нашей планете иначе, как выражение единого явления, существующего без перерыва со времени самых древних геологических эпох, следы которых мы можем изучать. В течение всего этого времени живое вещество было резко отделено от косной материи. Человек неразрывно связан в одно целое с жизнью всех живых существ, существующих или когда-либо существовавших.
Человек связан с этим целым еще благодаря питанию. Эта новая связь, как бы она ни была тесна и необходима, совсем иного порядка, чем непрестанное чередование поколений живых существ. Эта связь не есть тот глубокий природный процесс неизменный и необходимый для жизни, который выражен принципом Реди.
Правда, что эта связь составляет часть великого геохимического явления – круговорота химических элементов в биосфере, вызванного питанием организованных существ. Однако связь эта может быть изменена, не затронув стойкости жизненного целого. В палеонтологической истории биосферы существуют серьезные указания на то, что аналогичное измерение имело уже место в эволюции, некоторых групп бактерий, невидимых и мельчайших существ, обладающих, однако, огромной геохимической силой.
Зависимость человека от живого целого благодаря его питанию определяет все его существование. Изменение режима – в случае, если бы это произошло, – имело бы огромные последствия. В настоящее время основным фактом жизни являются неизбежность и возможность, свойственная человеку, строить и поддерживать существование и неприкосновенность своего тела только усвоением других организмов или продуктов их жизни. Химические соединения, созданные таким путем в земной коре, ему нужны и необходимы для его существования, но человеческий организм не может их сам производить. Он должен их искать в окружающей среде, уничтожать другие существа или использовать их биохимическую работу. Он умирает, если не находит в земной коре других живых существ, которыми мог бы питаться.
Очевидно, что вся жизнь человека, весь его социальный уклад в течение всего хода истории определяются этой необходимостью. В конце концов именно это неукротимое стремление управляет миром человека, строит и всю его историю, и все его существование. Последним фактором является неумолимый голод, который становится беспощадной движущей силой социального строя общества. Общественное равновесие поддерживается лишь неустанным трудом, и оно всегда неустойчиво. Большие перевороты в общественных строях, ошибки, совершенные на этой почве, всегда приводили к ужасающим последствиям.
В данном аспекте наша цивилизация всегда находится на краю пропасти. В настоящее время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а миллионы других – больше 10-15 млн. – стали жертвами совершенных социальных ошибок.
Никогда прежде непрочность человеческого существования не была настолько ясна и призрак упадка и даже падения человечества не был настолько ясно запечатлен в потрясенных душах...
Недавно – менее пяти поколений отделяют нас от этого времени – человек начал понимать ту внутреннюю и социальную структуру живого комплекса, к которому он принадлежит. До настоящего времени последствия этой структуры – огромные социальные и политические последствия – еще не проникли в его рассудок. Это ясно видно из наблюдения состояния текущих социальных идей, которые распространяются вокруг нас и которые двигают миром. Эти идеи остаются в своем основании вне настоящей науки. Они являются выражением прошлого точных наук. Они соответствуют науке, которая была сто лет назад.
Пока прогресс науки XIX и XX вв. до сих пор имел лишь слабое влияние на современную социальную мысль.
Точные же науки преобразовываются полностью, и их антагонизм с идеями прошлого становится все больше и больше. Не только массы, но и их предводители и сами их вдохновители принадлежат по своему разуму и научному багажу к стадиям, давно превзойденным научной эволюцией.
В современной общественной и социальной конструкции человечество в большей степени управляется идеями, которые уже более не соответствуют реальности и выражают состояние ума и научные знания поколений, исчезнувших в прошлом. Глубокое изменение социальных и политических идей, происшедшее вследствие новых достижений, колоссально, и это уже начинают видеть. Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением. Медленное проникновение научных достижений в жизнь и в научную мысль является обычной и общей чертой истории науки.
Новые основы нашего современного представления о питании были заложены быстрым темпом – в течение немногих лет – к концу XVIII в. благодаря усилиям небольшой избранной кучки людей, оставшихся не признанными и не понятыми своими современниками.
Это были лорд X. Кавендиш*246 в Лондоне – самый богатый человек страны, мизантроп и научный аскет; А.Л. Лавуазье*247 – финансист и экспериментатор, глубокий и ясный мыслитель, убийство которого является незабываемым стыдом для человечества; Ж. Пристлей*248 – пламенный теолог и английский радикал, преследуемый и непонятый, случайно избегнувший смерти, когда фанатичная толпа сожгла и уничтожила его дом, его лабораторию, его рукописи; он вынужден был покинуть свою родину; Т. де Соссюр*249 – женевский аристократ, представитель семьи, в которой высокая научная культура была наследственной; Ж. Инген-Хоуз*250 – глубокий натуралист и голландский врач, который, потому что был католиком, не мог создать себе положение на родине и работал в Вене и в Англии. За ними последовало множество исследователей во всех странах.
Через одно или два поколения, около 1840 г., идеи этих пионеров окончательно проникли в науку и были выражены с большей энергией и полнотой в Париже Ж. Буссенго*251 и Ж. Дюма*252 и в Германии, в Гиссене, Ю. Либихом*253.
Достижения огромной важности были результатом труда этих людей.
Живое единое целое – монолит жизни – мир организмов биосферы по своим функциям и по положению в земной коре оказался двойственным.
Существование большей части живого вещества, мира зеленых растений, находится в зависимости лишь от косной материи; этот мир независим от других организмов. Зеленые растения сами могут вырабатывать вещества, необходимые для их жизни, пользуясь косными, с жизнью не связанными химическими продуктами земной коры. Они заимствуют газы и водные растворы из окружающей среды и сами строят бесчисленные азотистые и углеродные соединения, сотни тысяч различных тел, входящих в состав их тканей.
Немецкий физиолог В. Пфеффер*254 назвал организмы, обладающие этими свойствами, автотрофными, потому что они в своем питании ни от кого не зависят. Гетеротрофными он назвал те организмы, которые в своем питании зависят от существования других организмов, пользуются их химическими продуктами. Они могут лишь изменять эти химические соединения, приготовленные независимо от них, приспособлять их к своей жизни, но не могут их создавать.
Существуют зеленые организмы, питание которых разнородно, которые отчасти приготовляют нужные химические соединения из косной материи, частью же, как, например, паразиты, получают их, эксплуатируя другие организмы. Это многочисленные в живой природе существа – миксотрофные организмы Пфеффера. Омела – один из примеров, всем известный.
Зеленые автотрофные организмы, зеленые растения, образуют главную основу единого монолита жизни. Бесконечно различный мир грибов, миллионы видов животных, все человечество могут существовать только в силу биохимической работы зеленых растений. Эта работа возможна лишь благодаря врожденной способности этих организмов превращать излученную Солнцем энергию в химическую энергию.
Очевидно, что жизнь не есть простое, исключительно земное явление, но, насколько принцип Реди соответствует реальности, должна рассматриваться как космическое явление в истории нашей планеты.
И также очевидно, что монолит жизни в целом не есть простое собрание отдельных неделимых, случайно собранных, но есть сложная организованность, части которой имеют функции, взаимно дополняющие друг друга и содействующие одна другой.
Автотрофный растительный мир может исполнять функцию, ему принадлежащую в этой организованности, только благодаря изготовлению им зеленого вещества, обладающего очень специфическими и очень замечательными свойствами, – хлорофилла. Это сложное органическое соединение, содержащее атомы магния; строение его молекулы, состоящей из углерода, водорода, кислорода, магния и азота, очень близко к строению молекулы красного гемоглобина нашей крови, в которой магний заменен железом.
Хлорофилл, строение и химические свойства которого начинают выясняться, образуется в растениях в мелких микроскопических специальных зернах, пластидах, рассеянных в клетках. Эти пластиды образуются только путем деления других уже существующих пластид: организм не может их создавать иным способом. Здесь обнаруживается замечательный факт, указывающий на существование явления, аналогичного тому, которое выражено в принципе Ф. Реди. Как бы далеко мы ни углублялись в прошлое, мы наблюдаем образование хлорофильных пластид исключительно из таких же пластид, ранее существовавших.
Благодаря этим хлорофиллсодержащим пластидам организм зеленых растений может в своей жизни обходиться без других организмов.
Если бы мы принимали во внимание лишь вопрос о питании, зеленое растение могло бы существовать в одиночестве на поверхности нашей планеты.
Отражение существования автотрофных организмов с хлорофильной функцией в биосфере огромно. Они не только дают возможность существования всем другим организмам и человечеству на Земле, но они определяют химию земной коры. Можно дать понятие о порядке этого явления, вспомнив некоторые связанные с ним числовые данные.
Мы окружены зеленью садов, лугов, лесов и полей. Если бы взглянуть на Землю с другой планеты из космического пространства, она казалась бы окрашенной в зеленый цвет. Но эта масса хлорофилла является лишь частью общей массы его, большая ее часть невидима для нас. Так, она наполняет верхние слои Мирового океана до глубины 400 м по крайней мере. Хлорофилл разбросан в бесчисленных мириадах одноклеточных невидимых для глаза водорослей; каждая из них дает начало в течение двух или трех суточных обращений нашей планеты новому поколению, которое немедленно начинает воспроизводиться. Если бы они не служили пищею другим организмам, то в несколько месяцев их количество сделалось бы невероятным и наполнило бы собой весь Мировой океан, всю его воду.
Присутствие свободного кислорода в нашей атмосфере и в водах есть проявление хлорофильной функции. Весь свободный кислород земного шара есть продукт зеленых растений63. Если б зеленые растения не существовали, через несколько сотен лет на поверхности Земли не осталось бы следа свободного кислорода и главные химические превращения на Земле прекратились бы.
Общий вес свободного кислорода в земной коре равняется 1,5 квадрильона метрических тонн. Уже одна эта цифра может дать представление о геохимическом значении жизни!
Количество хлорофилла, вырабатываемого зелеными растениями и непрерывно в них находящегося, которое необходимо для поддержания неизменности земной массы свободного кислорода, равняется по меньшей мере нескольким биллионам тонн.
Более 30 лет назад русский биолог С.Н. Виноградский*255 внес в эту картину новую важную черту, доказывающую еще большую сложность строения живого целого.
Он открыл существование живых автотрофных существ, лишенных хлорофилла. Это существа невидимые, бактерии, изобилующие в почвах, в верхних слоях земной коры, проникающие глубокие толщи всемирного океана.
Несмотря на их микроскопические размеры, их значение в экономике природы огромно благодаря поразительной силе их размножения.
Их огромное размножение, несравненно большее размножения одноклеточных зеленых водорослей, заставляет рассматривать их существование как явление, по порядку своему родственное с жизнью зеленых растений.
Без сомнения, число видов автотрофных бактерий незначительно; оно не превышает одной сотни, между тем как видов зеленых растений известно до 180 000. Но одна бактерия может произвести в одни сутки по крайней мере несколько триллионов особей, между тем как одна одноклеточная зеленая водоросль, из всех зеленых растений наиболее быстро размножающаяся, дает в тот же промежуток времени лишь несколько особей, и большей частью гораздо меньше, около одной особи в 2-3 дня.
Бактерии, открытые С.Н. Виноградским, независимы в своем питании не только от других организмов, но непосредственно и от солнечных лучей. Они употребляют для построения своего тела химическую энергию химических земных соединений, минералов, например богатых кислородом.
Этим путем они производят в биосфере огромную геохимическую работу, как разлагая эти соединения, так и создавая, как следствие этого разложения, новые синтезы. Их роль значительна в истории углерода, серы, азота, железа, марганца и, вероятно, многих других элементов нашей планеты.
Не подлежит сомнению, что они составляют часть того же единого целого – монолита жизни, в который входят все другие организмы, ибо они являются их пищей, используя в свою очередь их отбросы. Всё заставляет думать, что связь эта еще более тесная.
Можно их рассматривать как очень специализированные растения, эволюционно происшедшие из зеленых растений, как это обычно допускают для других бесхлорофильных растений. Но не исключена, однако, возможность видеть в этих бактериях живых представителей отдаленных предков – организмов с хлорофильной функцией.
При современном состоянии наших знаний первая гипотеза кажется более правдоподобной. Однако надо всегда принимать во внимание, что организмы, открытые С.Н. Виноградским, играют первенствующую роль в явлениях выветривания земных минералов. Это же выветривание, по-видимому, неизменно в течение всей геологической истории нашей планеты. Оно существенно не изменилось с архейской эры.
Человек – животное общественное, гетеротрофное. Он может существовать лишь при условии существования других организмов, именно зеленых растений. Однако его существование на нашей планете резко отличается от существований всех других организованных существ. Разум, его отличающий, придает живому веществу удивительные черты, глубоко изменяет его действие на окружающую среду.
Возникновение человека было актом величайшей важности, единичным в течение геологической истории: ему нет ничего аналогичного в среде мириадов предшествовавших веков.
С научной точки зрения можно его рассматривать лишь как результат длинного естественного процесса, начало которого для нас теряется, но который длится непрерывно в течение всего геологического времени. Ни одна научная теория не смогла до сих пор обнять в целом палеонтологическую эволюцию организованных существ, последним важным проявлением которой было возникновение человека.
Нельзя считать это генетическое изменение живого, целого, единой жизни, смерть и рождение бесчисленных поколений64, иначе как эмпирическим обобщением. Им является эволюция видов во времени.
Для ученого эмпирическое обобщение есть основа всех его знаний, самая достоверная их форма. Но для того чтобы связать какое-нибудь эмпирическое обобщение с другими фактами и с другими эмпирическими обобщениями, ученый должен пользоваться теориями, аксиомами, моделями, гипотезами, абстракцией. В этой области существуют лишь несовершенные попытки.
Совершенно очевидно, что существует определенное направление в палеонтологической эволюции организованных существ и что появление в биосфере разума, сознания, направляющей воли – этих основных проявлений человека – не может быть случайным. Но для нас еще невозможно дать какое-нибудь объяснение этому явлению, т.е. нельзя логически связать его с современным научным построением мира, опирающимся на аналогии и аксиомы.
Человек глубоко отличается от других организмов по своему действию на окружающую среду. Это различие, которое было велико с самого начала, стало огромным с течением времени.
Действие других организмов почти исключительно определяется их питанием и их ростом. Один факт образования свободного кислорода достаточен, чтобы оценить планетное значение их питания. И это один факт среди тысячи других. Образование каменных углей, нефтей, железных руд, черноземов, известняков, коралловых островов и т.д. и т.д. - немногие примеры на тысячи других проявлений их роста.
Человек, несомненно, проявляется в биосфере своим питанием и своим размножением так же, как и все другие организмы. Но масса всего человечества ничтожна по сравнению с массой живого вещества, и прямые проявления в живой природе его цитания и его размножения сравнительно почти равны нулю. Австрийский экономист Л. Брентано*256 дал очень ясное представление о масштабе человечества в биосфере. Если бы каждому человеку уделили 1 м2 и собрали бы всех существующих на земной поверхности людей вместе, пространство, которое они заняли бы, не превысило бы площади небольшого Констанцкого озера в Швейцарии.
Совершенно очевидно, что проявление такой живой массы в масштабе геологических явлений ничтожно.
Разум всё изменяет. Руководясь им, человек употребляет все вещество, окружающее его, – косное и живое – не только на построение своего тела, но также и на нужды своей общественной жизни. И это использование является уже большой геологической силой.
Разум вводит этим путем в механизм земной коры новые мощные процессы, аналогичных которым не было до появления человека.
Человек – это Homo sapiens faber*257 А. Бергеона, Он меняет внешний вид, химический и минералогический состав окружающей среды, своего местообитания. Местообитанием его является вся земная поверхность.
Его деятельность с каждым веком становится более мощной и более организованной. Натуралист не может видеть в ней ничего другого, как естественный процесс того же порядка, как все другие геологические явления. Возможно, что этот процесс неизменно регулируется принципом инерции; он будет идти до конца, если не встретит противной ему внешней силы, которая его уничтожит или будет держать в потенциальном состоянии.
Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все будущее человечества. Изменяя этим путем жизнь автотрофных зеленых организмов на земной поверхности, человек тем самым создал такой рычаг для своей деятельности, последствия которого в истории планеты были неисчислимы. Человек этим путем овладел всем живым веществом, не только зелеными растениями, так как именно эти последние определяют жизнь всех других существ. Мало-помалу человек изменил живое вещество согласно решению и целям своего разума.
Благодаря земледелию он себя в своем питании освободил от стихийной зависимости от живой окружающей природы, тогда как все другие организованные существа в этом отношении являются ее бессильными придатками.
Основываясь на этой великой победе, человек уничтожил «девственную» природу. Он внес в нее массу неизвестных, новых химических соединений и новых форм жизни – культурных пород животных и растений.
Он изменил течение всех геохимических реакций. Лик планеты стал новым и пришел в состояние непрерывных потрясений.
Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой среде необходимой обеспеченности своей жизни.
В современной социальной организации существование даже большинства является необеспеченным. Распределение богатств не дает главной массе человечества условий жизни, отвечающих идеалам нравственным и религиозным.
Новые тревожные факты, затрагивающие основы его существования, появляются в последнее время.
Запасы исходных для его существования сырых материалов, видимо, уменьшаются с ходом времени. Если их потребление будет увеличиваться с той же быстротой, как раньше, положение станет серьезным. Через два поколения можно ждать железного голода; нефть начнет исчезать еще раньше, вопрос о каменном угле может через несколько поколений сделаться трагическим. То же самое ожидает большинство других первичных основ цивилизации, материальной культуры. Каменноугольный голод кажется особенно тревожным, так как именно уголь дает человеку энергию, необходимую для его общественной жизни в теперешней ее форме.
Это явление неизбежно, ибо человек быстро истребляет в виде угля запасы исходного для культуры сырья, образовавшиеся в течение мириада веков. Для сколько-нибудь заметного нового их накопления потребовалось бы такое же огромное время. Эти запасы неизбежно ограниченны. Если бы даже нашлись неизвестные новые их источники или если б стали обрабатывать менее богатые или более глубоко лежащие их концентрации, этим лишь отодвинули бы на время наступление критического момента, но тревожная проблема осталась бы нерешенной.
Глубокие умы уже давно убедились в необходимости радикальных социальных изменений, научных открытий нового порядка, чтобы отразить неминуемую опасность.
В начале прошлого века неотвратимый голод в основных материалах жизни не мог быть еще замечен, так как энергия, которой располагал человек этой эпохи, была тесно связана с древними вековыми формами существования, с жизнью и работой людей, растений, животных. Однако уже тогда основатели социализма, особенно Сен-Симон*258, Годуин*259, Оуен*260, понимали первостепенное значение науки, невозможность решить социальный вопрос, опираясь только на использование ресурсов, которые существовали в их время, без увеличения с помощью науки мощности человечества.
Это был действительно научный социализм в собственном смысле, который был позже забыт. Проблема, которая стоит в данный момент перед человечеством, перерастает социальную идеологию. Проблема, которая в настоящее время встает перед человечеством, отчетливо выходит за пределы общественной идеологии, созданной социалистами и коммунистами всех школ, которые в своих построениях упустили живительный дух науки, ее социальную роль. Наше поколение стало жертвой попытки воплощения этой идеологии, как это очевидно из трагических событий в моей стране, одной из самых богатых в мире природными ресурсами. А в результате мы имеем гибель и голод огромного множества людей и экономический провал коммунистической системы, представляющийся неоспоримым. Но провал социализма на деле еще глубже. Социализм ставит социальную проблему с более чем ограниченной точки зрения; он остается на поверхности.
Для решения социального вопроса необходимо подойти к основам человеческого могущества – необходимо изменить форму питания и источники энергии, используемые человеком.
Выхода из положения можно ожидать, наряду с разрешением социальных проблем, которые поставлены социализмом, в изменении формы питания и источников энергии, доступной человеку.
На эти два пути устремляется мало-помалу мысль ученых. Они теперь стоят на прочной почве. Не только возможность разрешить эти две проблемы не подлежит сомнению, но, больше того, ясно, что они неизбежно, как природный процесс, будут разрешены в очень короткое время даже по сравнению с продолжительностью жизни человечества.
Разрешение этих проблем рисуется как результат успехов физико-химических наук. Уже с давних пор наука в своем искании истины стремится найти новые формы энергии в мире и создать великие химические синтезы органического вещества. Средства, которыми она располагает для своей работы, очень недостаточны, но они единственные, доступные ей в современном человеческом обществе, где положение ее пока находится в противоречии с ее действительной ролью как производителя богатства и человеческого могущества.
Можно ускорить это научное движение, создавая новые методы исследования, но остановить его невозможно. Ибо нет силы на Земле, которая могла бы удержать человеческий разум в его устремлении, раз он постиг, как в данном случае, значение истин, перед ним раскрывающихся.
До сих пор сила огня в ее разнообразных формах была почти единственным источником энергии социальной жизни. Человек завладел ею, сжигая другие организмы или их ископаемые остатки. За последние десятки лет началась систематическая замена огня другими источниками энергии, независимыми от жизни, прежде всего белым углем. Уже сделан первый подсчет запасов белого угля, экономии движущей силы воды, находящейся на поверхности всей планеты. Подсчет показал, что, как это количество ни велико, оно одно недостаточно для удовлетворения социальных нужд.
Но запасы энергии, находящиеся в распоряжении разума, неистощимы. Сила приливов и морских волн, радиоактивная, атомная энергия, теплота Солнца могут дать нужную силу в любом количестве.
Введение этих форм энергии в жизнь есть вопрос времени. Он зависит от проблем, постановка и разрешение которых не являются неисполнимыми.
Так добытая энергия будет практически безгранична.
Пользуясь непосредственно энергией Солнца, человек овладеет источником энергии зеленых растений, той формы ее, которой он сейчас пользуется через посредство этих последних как для своей пищи, так и для топлива.
Непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ, как только он будет открыт, коренным образом изменит будущее человека.
Разрешение этой задачи тревожило воображение ученых со времени великих успехов, достигнутых органической химией; в сущности, это невысказываемая, но неотступная мечта работников лабораторий. Ее никогда не теряют из вида. Если великие химики лишь изредка высказывают ее, как это делал М. Бертело*261, то только потому, что они знают, что эта задача не может быть разрешена, пока не будет сделана длинная подготовительная работа. Эта работа совершается систематически. Она не может не быть уделом долгих поколений только потому, что в современном мировом социальном строе средства научной работы ничтожны.
Одно поколение уже исчезло со времени смерти М. Вертело. Мы теперь гораздо ближе стоим к осуществлению заветной цели, чем при его жизни. Можно проследить ее медленное, но непрестанное движение вперед. После блестящих работ немецкого химика Э. Фишера и его школы над белками и углеводами не может быть сомнений в конечном успехе.
Во время последней мировой войны задача эта несколько раз подвергалась рассмотрению в разных странах с точки зрения ее практического осуществления, и убеждение в неминуемости ее разрешения пустило глубокие корни в среде ученых.
Без сомнения, случается, что научное открытие теряется или получает практическое осуществление, применение в жизни лишь долго спустя после того, как было сделано, Но можно быть уверенным, что такая судьба не постигнет синтеза пищи.
Открытия этого синтеза ждут, и его великие последствия в жизни не замедлят проявиться.
Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей и в жизни биосферы?
Его создание освободило бы человека от его зависимости от другого живого вещества. Из существа социально гетеротрофного он сделался бы существом социально автотрофным.
Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Это означало бы, что единое целое – жизнь – вновь разделилось бы, появилось бы третье, независимое ее ответвление. В силу этого факта на земной коре появилось бы в первый раз в геологической истории земного шара автотрофное животное – автотрофное позвоночное.
Нам сейчас трудно, быть может невозможно, представить себе все геологические последствия этого события; но очевидно, что это было бы увенчанием долгой палеонтологической эволюции, явилось бы не действием евободной воли человека, а проявлением естественного процесса.
Человеческий разум этим путем не только создал бы новое большое социальное достижение, но ввел бы в механизм биосферы новое большое геологическое явление.
Отражение такого синтеза на человеческом обществе, несомненно, коснется нас еще ближе. Будет ли оно благотворно или доставит новые страдания человечеству? Мы этого не знаем. Но течение событий, будущее, может быть определяемо в сильной мере нашей волей и нашим разумом. Нужно уже сейчас готовиться к пониманию последствий этого открытия, неизбежность которого очевидна.
Лишь отдельные мыслители предчувствуют приближение новой эры. Они по-разному представляют ее последствия.
Их интуиция находит себе выражение в художественных образах – в романах. Некоторые из них смотрят на будущее тревожно и трагично (Д. Галеви в «Historie de quarte ans» – «История четырех лет»), другие рисуют его себе великим и прекрасным («Auf zwei Planeten» глубокого мыслителя и историка идей, немца К. Лассвитца)65.
Натуралист может взирать на это открытие иначе, с мудрым спокойствием.
Он видит в завершении его синтетическое выражение большого природного процесса, длящегося миллионы лет и не являющего на всем этом протяжении признака разложения. Это процесс творческий, а не анархический.
В конце концов будущее человека всегда большей частью создается им же самим. Создание нового, автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений; оно реально откроет перед ним пути лучшей жизни. <...>
1. Мы приближаемся к решающему моменту во второй мировой войне. Она возобновилась в Европе после 21-годового перерыва, в 1939 г., и длится в Западной Европе пять лет, а у нас, в Восточной Европе, три года. На Дальнем Востоке она возобновилась раньше – в 1931 г. – и длится уже 13 лет.
В истории человечества и в биосфере вообще война такой мощности, длительности и силы – небывалое явление. К тому же ей предшествовала тесно с ней связанная причинно, но значительно менее мощная первая мировая война с 1914 по 1918 г.
В нашей стране эта первая мировая война привела к новой – исторически небывалой – форме государственности не только в области экономической, но и в области национальных стремлений.
С точки зрения натуралиста (а думаю, и историка) можно и должно рассматривать исторические явления такой мощности как единый большой земной геологический, а не только исторический процесс.
Первая мировая война 1914–1918 гг. лично в моей научной работе отразилась самым решающим образом. Она изменила в корне мое геологическое миропонимание.
В атмосфере этой войны я подошел в геологии к новому для меня и для других и тогда забытому пониманию природы – к геохимическому и к биогеохимическому, охватывающему и косную и живую природу с одной и той же точки зрения66.
2. Я провел годы первой мировой войны в непрерывной научно-творческой работе; неуклонно продолжаю ее в том же направлении и до сих пор.
28 лет назад, в 1915 г., в Российской академии наук в Петрограде была образована академическая «Комиссия по изучению производительных сил» нашей страны, так называемый КЕПС (председателем которой я был), сыгравшая заметную роль в критическое время первой мировой войны. Ибо для Академии наук совершенно неожиданно в разгаре войны выяснилось, что в царской России не было точных данных о так называемом теперь стратегическом сырье, и нам пришлось быстро сводить воедино рассеянные данные и быстро покрывать недочеты нашего знания.
Подходя геохимически и биогеохимически к изучению геологических явлений, мы охватываем всю окружающую нас природу в одном и том же атомном аспекте. Это как раз – бессознательно для меня – совпало с тем, что, как оказалось теперь, характеризует науку XX в. и отличает ее от прошлых веков. XX век есть век научного атомизма.
Все эти годы, где бы я ни был, я был охвачен мыслью о геохимических и биогеохимических проявлениях в окружающей меня природе (в биосфере). Наблюдая ее, я в то же время направил интенсивно и систематически в эту сторону и свое чтение, и свое размышление.
Получаемые мною результаты я излагал постепенно, как они складывались, в виде лекций и докладов в тех городах, где мне пришлось в то время жить: в Ялте, в Поливе, в Киеве, в Симферополе, в Новороссийске, в Ростове и других.
Кроме того, всюду – почти во всех городах, где мне пришлось жить, – я читал всё, что можно было в этом аспекте, в широком его понимании, достать.
Стоя на эмпирической почве, я оставил в стороне, сколько был в состоянии, всякие философские искания и старался опираться только на точно установленные научные и эмпирические факты и обобщения, изредка допуская рабочие научные гипотезы. Это надо иметь в виду в дальнейшем.
В связи со всем этим в явления жизни я ввел вместо понятия «жизнь» понятие «живого вещества», сейчас, мне кажется, прочно утвердившееся в науке. «Живое вещество» есть совокупность живых организмов. Это не что иное, как научное, эмпирическое обобщение всем известных и легко и точно наблюдаемых бесчисленных, эмпирически бесспорных фактов.
Понятие «жизнь» всегда выходит за пределы понятия «живое вещество» в области философии, фольклора, религии, художественного творчества. Это все отпало в «живом веществе».
3. В гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практически забывает, что он сам и все человечество, от которого он не может быть отделен, неразрывно связаны с биосферой – с определенной частью планеты, на которой они живут. Они геологически закономерно связаны с ее материально-энергетической структурой.
В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и передвигающемся на нашей планете индивидууме, который свободно строит свою историю. До сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, а в известной мере и биологи, сознательно не считаются с законами природы биосферы – той земной оболочки, где может только существовать жизнь. Стихийно человек от нее неотделим.
И эта неразрывность только теперь начинает перед нами точно выясняться.
В действительности ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все эти организмы неразрывно и непрерывно связаны – прежде всего питанием и дыханием – с окружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в природных условиях они существовать не могут.
Замечательный петербургский академик, всю свою жизнь отдавший России, Каспар Вольф (1733–1794) в год Великой французской революции (1789) ярко выразил это в книге, напечатанной по-немецки в Петербурге «Об особенной и действенной силе, свойственной растительной и животной субстанциям»67. Он опирался на Ньютона, а не на Декарта, как огромное большинство биологов в его время.
4. Человечество как живое вещество неразрывно связано с материально-энергетическими процессами определенной геологической оболочки Земли – с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на одну минуту.
Понятие «биосферы», т.е. «области жизни», введено было в биологию Ламарком (1744–1829) в Париже в начале XIX в., а в геологию Э. Зюссом (1831–1914) в Вене в конце того же века.
В нашем столетии биосфера получает совершенно новое понимание. Она выявляется как планетное явление космического характера.
В биогеохимии нам приходится считаться с тем, что жизнь (живые организмы) реально существует не только на одной нашей планете, не только в земной биосфере. Это установлено сейчас, мне кажется, без сомнений пока для всех так называемых земных планет, т.е. для Венеры, Земли и Марса.
5. В Биогеохимической лаборатории Академии наук в Москве, ныне переименованной в Лабораторию геохимических проблем, в сотрудничестве с академическим же Институтом микробиологии (директор – член-кор. Академии наук Б.Л. Исаченко) мы поставили проблему о космической жизни еще в 1940 г. как текущую научную задачу. В связи с военными событиями эта работа была приостановлена и будет возобновлена при первой возможности.
В архивах науки, в том числе и нашей, мысль о жизни как космическом явлении существовала уже давно. Столетие назад, в конце XVII в., голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629–1695) в своей предсмертной работе, в книге «Космотеорос», вышедшей в свет уже после его смерти, научно выдвинул эту проблему. Книга эта была дважды, по инициативе Петра I, издана на русском языке под заглавием «Книга мирозрения» в первой четверти XVIII в. Гюйгенс в ней установил научное обобщение, что «жизнь есть космическое явление, в чем-то резко отличное от косной материи». Это обобщение я назвал недавно «принципом Гюйгенса».
Живое вещество по весу составляет ничтожную часть планеты. По-видимому, это наблюдается в течение всего геологического времени, т.е. геологически вечно.
Оно сосредоточено в тонкой, более или менее сплошной, пленке на поверхности суши в тропосфере – в лесах и в полях – и проникает весь Океан. Количество его исчисляется долями, не превышающими десятых долей процента биосферы по весу, порядка, близкого к 0,25%. На суше оно идет не в сплошных скоплениях на глубину в среднем, вероятно, меньше 3 км. Вне биосферы его нет.
В ходе геологического времени оно закономерно изменяется морфологически. История живого вещества в ходе времени выражается в медленном изменении форм жизни, форм живых организмов, генетически между собой непрерывно связанных, от одного поколения к другому, без перерыва.
Веками эта мысль поднималась в научных исканиях; в 1859 г. она, наконец, получила прочное обоснование в великих достижениях Ч. Дарвина (1809–1882) и А. Уоллеса (1822–1913). Она вылилась в учение об эволюции видов – растений и животных, в том числе и человека.
Эволюционный процесс присущ только живому веществу. В косном веществе нашей планеты нет его проявлений. Те же самые минералы и горные породы образовывались в криптозойской эре68, какие образуются и теперь. Исключением являются биокосные природные тела, всегда связанные так или иначе с живым веществом.
Изменение морфологического строения живого вещества, наблюдаемое в процессе эволюции, в ходе геологического времени, неизбежно приводит к изменению его химического состава. Этот вопрос сейчас требует экспериментальной проверки. Проблема эта поставлена нами в план работы 1944 г. совместно с Палеонтологическим институтом Академии наук.
6. Если количество живого вещества теряется перед косной и биокосной массами биосферы, то биогенные породы (т.е. созданные живым веществом) составляют огромную часть ее массы, идут далеко за пределы биосферы.
Учитывая явления метаморфизма, они превращаются, теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку, выходят из биосферы.
Гранитная оболочка Земли есть область былых биосфер. В замечательной по многим мыслям книге Ламарка «Hydrogéologie» (1802) живое вещество, как я его понимаю, являлось создателем главных горных пород нашей планеты. Ж.Б. Ламаркде-Моние (1744–1829) до самой смерти не принимал открытий Лавуазье (1743–1794). Но другой крупнейший химик – Ж.Б. Дюма, его младший современник (1800–1884), много занимавшийся химией живого вещества, долго держался представлений о количественном значении живого вещества в строении горных пород биосферы.
7. Младшие современники Ч. Дарвина – Д.Д. Дана (1813–1895) и Д. Ле Конт (1823–1901) – два крупнейших североамериканских геолога (а Дана к тому же минералог и биолог) – выявили еще до 1859 г. эмпирическое обобщение, которое показывает, что эволюция живого вещества идет в определенном направлении.
Это явление было названо Дана цефализацией, а Ле Контом – психозойской эрой. Д.Д. Дана, подобно Дарвину, пришел к этой мысли, к этому пониманию живой природы во время своего кругосветного путешествия, которое он начал через два года после возвращения в Лондон Ч. Дарвина, т.е. в 1838 г., и которое продолжалось до 1842 г.69
Нельзя здесь не отметить, что экспедиция, во время которой Дана пришел к своим выводам о цефализации, о коралловых островах и т.д., фактически исторически тесно связана с исследованиями Тихого океана – океаническими путешествиями русских моряков, главным образом Крузенштерна (1770–1846).
Изданные на немецком языке, они заставили американца Джона Рейнольдса (адвоката) добиваться организации такой же американской первой морской научной экспедиции. Он начал добиваться этого в 1827 г., когда появилось описание экспедиции Крузенштерна на немецком языке. Только в 1838 г., через одиннадцать лет, благодаря его настойчивости эта экспедиция состоялась. Это была экспедиция Уилькиса (Wilkes), окончательно доказавшая существование Антарктики.
8. Эмпирические представления о направленности эволюционного процесса – без попыток теоретически обосновать – идут глубже, в XVIII в. Уже Бюффон (1707–1788) говорил о царстве человека, в котором он живет, основываясь на геологическом значении человека.
Эволюционная идея была ему чужда. Она была чужда и Л. Агассицу (1807–1873), введшему в науку идею о ледниковом периоде. Агассиц жил уже в эпоху бурного расцвета геологии. Он считал, что геологически наступило царство человека, но из богословских представлений высказывался против эволюционной теории. Ле Конт указывает, что Дана, стоявший раньше на точке зрения, близкой к Агассицу, в последние годы жизни принял идею эволюции в ее тогда обычном, дарвиновском понимании. Разница между представлениями о психозойской эре Ле Конта и цефализацией Дана исчезла.
К сожалению, в нашей стране особенно, это крупное эмпирическое обобщение до сих пор остается вне кругозора биологов.
Правильность принципа Дана (психозойская эра Ле Конта), который оказался вне кругозора наших палеонтологов, может быть легко проверена теми, кто захочет это сделать, по любому современному курсу палеонтологии. Он охватывает не только все животное царство, но ярко проявляется и в отдельных типах животных.
Дана указал, что в ходе геологического времени, говоря современным языком, т.е. на протяжении двух миллиардов лет по крайней мере, а наверное много больше, наблюдается (скачками) усовершенствование – рост – центральной нервной системы (мозга), начиная от ракообразных, на которых эмпирически и установил свой принцип Дана. и от моллюсков (головоногих) и кончая человеком. Это явление и названо им цефализацией. Раз достигнутый уровень мозга (центральной нервной системы) в достигнутой эволюции не идет уже вспять, только вперед.
9. Исходя из геологической роли человека, А.П. Павлов (1854–1929) в последние годы своей жизни говорил об антропогенной эре, нами теперь переживаемой. Он не учитывал возможности тех разрушений духовных и материальных ценностей, которые мы сейчас переживаем вследствие варварского нашествия немцев и их союзников, через десять с небольшим лет после его смерти, но он правильно подчеркнул, что человек на наших глазах становится могучей геологической силой, все растущей.
Эта геологическая сила сложилась геологически длительно, для человека совершенно незаметно. С этим совпало изменение (материальное прежде всего) положения человека на нашей планете.
В XX в. впервые в истории Земли человек узнал и охватил всю биосферу, закончил географическую карту планеты Земли, расселился по всей ее поверхности. Человечество своей жизнью стало единым целым. Нет ни одного клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если бы это было ему нужно. Наше пребывание в 1937- 1938 гг. на плавучих льдах Северного полюса это ярко доказало. И одновременно с этим, благодаря мощной технике и успехам научного мышления, благодаря радио и телевидению, человек может мгновенно говорить в любой точке нашей планеты с кем угодно. Перелеты и перевозки достигли скорости нескольких сотен километров в час, и на этом они еще не остановились. Все это результат цефализации Дана (1856), роста человеческого мозга и направляемого им его труда.
В ярком образе экономист Л. Брентано иллюстрировал планетную значимость этого явления. Он подсчитал, что, если бы каждому человеку дать один квадратный метр и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже всей площади маленького Боденского озера на границе Баварии и Швейцарии. Остальная поверхность Земли осталась бы пустой от человека. Таким образом, все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом.
В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление.
10. Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей – Homo Sapiens и его геологических предков Sinanthropus и др., потомство которых для белых, красных, желтых и черных рас – любым образом среди них всех – развивается безостановочно в бесчисленных поколениях. Это закон природы. Все расы между собой скрещиваются и дают плодовитое потомство70.
В историческом состязании, например в войне такого масштаба, как нынешняя, в конце концов побеждает тот, кто этому закону следует. Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона природы. Я употребляю здесь понятие «закон природы», как это теперь все больше входит в жизнь в области физико-химических наук как точно установленное эмпирическое обобщение.
Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого.
Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».
11. В 1922–1923 гг. на лекциях в Сорбонне в Париже я принял как основу биосферы биогеохимические явления. Часть этих лекций была напечатана в моей книге «Очерки геохимии»71.
Приняв установленную мною биогеохимическую основу биосферы за исходное, французский математик и философ бергсонианец Е. Леруа в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие ноосферы72 как современной стадии, геологически переживаемой биосферой. Он подчеркивал при этом, что он пришел к такому представлению вместе со своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тейяром де Шарденом, работающим теперь в Китае.
12. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету.
Здесь перед нами встала новая загадка. Мысль не есть форма энергии. Как же может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен. Его поставил впервые, сколько я знаю, американский ученый, родившийся во Львове, математик и биофизик Альфред Лотка73. Но решить его он не мог.
Как правильно сказал некогда Гёте (1749–1832), не только великий поэт, но и великий ученый, в науке мы можем знать только, как произошло что-нибудь, а не почему и для чего.
Эмпирические результаты такого «непонятного» процесса мы видим кругом нас на каждом шагу.
Минералогическая редкость – самородное железо – вырабатывается теперь в миллиардах тонн. Никогда не существовавший на нашей планете самородный алюминий производится теперь в любых количествах. То же самое имеет место по отношению к почти бесчисленному множеству вновь создаваемых на нашей планете искусственных химических соединений (биогенных культурных минералов). Масса таких искусственных минералов непрерывно возрастает. Все стратегическое сырье относится сюда.
Лик планеты – биосфера – химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка суши, все ее природные воды.
В результате роста человеческой культуры в XX в. все более резко стали меняться (химически и биологически) прибрежные моря и части Океана.
Человек должен теперь принимать все больше и больше меры к тому, чтобы сохранить для будущих поколений никому не принадлежащие морские богатства. Сверх того, человеком создаются новые виды и расы животных и растений.
В будущем нам рисуются как возможные сказочные мечтания: человек стремится выйти из предела своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, выйдет.
В настоящее время мы не можем не считаться с тем, что в переживаемой нами великой исторической трагедии мы пошли по правильному пути, который отвечает ноосфере.
Историк и государственный деятель только подходят к охвату явлений природы с этой точки зрения.
13. Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает нам выясняться из изучения ее геологического прошлого в некоторых своих аспектах.
Приведу несколько примеров. Пятьсот миллионов лет тому назад, вкембрийской геологической эре, впервые в биосфере появились богатые кальцием скелетные образования животных, а растений – больше двух миллиардов лет тому назад. Это кальциевая функция живого вещества, ныне мощно развитая, была одной из важнейших эволюционных стадий геологического изменения биосферы.
Не менее важное изменение биосферы произошло 70-110 млн. лет тому назад, во время меловой системы и особенно третичной. В эту эпоху впервые создались в биосфере наши зеленые леса, всем нам родные и близкие. Это другая большая эволюционная стадия, аналогичная ноосфере. Вероятно, в этих лесах эволюционным путем появился человек около 15-20 млн. лет тому назад.
Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее в новый стихийный геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны.
Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере.
Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим.
 А.Л. Чижевский, выдающийся ученый, основатель гелио- и космобиологии, теории и практики аэроионификации, мыслитель, поэт и художник, во многом рассказал о себе сам. Правда, в его мемуарах, изданных через десять лет после смерти автора, повествование обрывается 1941 г., когда он был арестован и отправлен в «первый круг» сталинского ада, в тюрьму, ссылку и научную подневольную шарашку. И там продолжил он и свои старые исследования, и новые, а затем, с 1957 г., прожил в Москве на бульваре, случайно-знаменательно носившем заветное для него имя «Звездный», но эти последние годы были посвящены уже некоторому подведению итогов: писались мемуары, окончательно редактировался свод его поэтических произведений, началась вялая публикация некоторых научных книг и статей. Впрочем, итог жизни мог казаться тогда трагическим: вырванный на десятилетия из жизни, научной работы, публикаций, профессионального общения, Чижевский был практически забыт. Его идеи, результаты опытов давно вошли в теорию и практику мировой космобиологии как ее азы и фундамент, притом что сам ее основоположник был фактически вытеснен новой генерацией исследователей. Да, обрыв автобиографического рассказа ясно обозначил самую плодотворную, неистовую, свободную часть его жизни, которая вспоминалась охотно и эмоционально.
А.Л. Чижевский, выдающийся ученый, основатель гелио- и космобиологии, теории и практики аэроионификации, мыслитель, поэт и художник, во многом рассказал о себе сам. Правда, в его мемуарах, изданных через десять лет после смерти автора, повествование обрывается 1941 г., когда он был арестован и отправлен в «первый круг» сталинского ада, в тюрьму, ссылку и научную подневольную шарашку. И там продолжил он и свои старые исследования, и новые, а затем, с 1957 г., прожил в Москве на бульваре, случайно-знаменательно носившем заветное для него имя «Звездный», но эти последние годы были посвящены уже некоторому подведению итогов: писались мемуары, окончательно редактировался свод его поэтических произведений, началась вялая публикация некоторых научных книг и статей. Впрочем, итог жизни мог казаться тогда трагическим: вырванный на десятилетия из жизни, научной работы, публикаций, профессионального общения, Чижевский был практически забыт. Его идеи, результаты опытов давно вошли в теорию и практику мировой космобиологии как ее азы и фундамент, притом что сам ее основоположник был фактически вытеснен новой генерацией исследователей. Да, обрыв автобиографического рассказа ясно обозначил самую плодотворную, неистовую, свободную часть его жизни, которая вспоминалась охотно и эмоционально.
Родился будущий ученый 7 февраля 1897 г. в посаде Цехановец Гродненской губернии, ранние годы провел в родовом родительском имении Александровке Брянского уезда. Детство Шуры Чижевского в семье отца, высокообразованного кадрового военного из именитого дворянского рода, тетушки, заменившей ему рано умершую мать (на первом году его жизни), и бабушки, приобщившей его к иностранным языкам и рисованию, было счастливым: все разнообразные задатки и склонности ребенка получили богатое питание и свободное развитие. Ежегодно до 1906 г. его вывозят за границу в Италию и Францию подправлять слабое здоровье, он много путешествует с близкими, знакомится с культурой Греции и Египта, семи лет берет уроки живописи в Парижской академии художеств у одного из учеников Дега. Позднее знаменитому исследователю, зачинателю новых научных дисциплин уже ни разу, несмотря на многочисленные приглашения западных университетов, научных обществ и отдельных ученых светил, не удастся выехать из страны.
Увлечение естествознанием, особенно астрономией, а также поэзией, живописью, музыкой началось с детства. Тогда-то и были заложены, по словам Чижевского, «основные магистрали» всей его последующей жизни. «Уже в детстве душа моя была страстной и восторженной, а тело – нервным и легко возбудимым», – писал Александр Леонидович в своих мемуарах, пытаясь разобраться в личностных, физиологических и психических предпосылках своего будущего творчества. Любопытство к многообразию окружающего мира, внимание к его существам и процессам достигало в ребенке, потом отроке и юноше крайнего, жгучего градуса. Жадности обнять всё в мире, вчувствоваться, вникнуть и понять, казалось, не было предела в его душе. В этой поистине трепетной открытости земле и небу (а в последнее влекло его неудержимо, и в 10 лет Шура составил свой первый, пока компилятивный труд «Популярную космографию по Клейну, Фламмариону и другим») – исток будущего восчувствия целостности Жизни в ее пронизанности энергиями и влияниями Вселенной.
Есть какие-то сочувственные внутренние вибрации организма на те или иные вещи, явления, стороны мира, своего рода эрос к ним. Эти влечения, некое симпатическое сродство не всегда осознаются до конца, но экзистенциальный момент выбора самого предмета исследования всегда то отчетливыми, а той прихотливыми нитями вплетается в научную судьбу. И тут случай Чижевского красочно убедителен. «Моя стихия – великое беспокойство, вечное волнение, вечная тревога. И я всегда горел внутри! Страстное ощущение огня – не фигурального, а истинного жара было в моей груди». И что же – с ранней юности этот носитель внутреннего огня страстно, с жаром отдался изучению первоисточника всякого огня, жара, света в нашем мире – Солнца. «Солнцепоклонник!» – так называл он себя сам. Сначала в школе, а затем в последнем классе реального училища в Калуге, куда в 1913 г. переехала его семья, Александр изучает все книги о Солнце, какие только обнаружились в богатой домашней библиотеке, и те, что он выписывает из магазинов двух столиц; а каждый вечер до часу ночи проводит за телескопом. И когда в апреле 1914 г. впервые переступает порог дома знаменитого калужского чудака – Константина Эдуардовича Циолковского, то уже излагает ему свои первые интуиции и идеи о солнечных влияниях на земную жизнь. И не только в детстве и юности, но и в зрелости, став уже автором теории солнечно-земных связей, он сохранил первобытный языческий трепет перед этим «державным светилом», чувство восторга, преклонения и чуть ли не мистического ужаса. «Звезды и Солнце всегда представлялись мне сверхъестественными страшными телами, жгучий интерес к которым не ослаб у меня и сейчас», – пишет Чижевский в своей автобиографии. Но эти строки не вошли в сильно усеченный текст издания книги «Вся жизнь». Очевидно, показались редактору не приличествующими современному трезвому ученому. Хотя именно такое древнее, суеверное, можно сказать, отношение к нашему светилу оказалось, как это обнаружил тот же Чижевский, намного более научно верным, чем высокомерно-трезвое его игнорирование.
И последнее исследование Чижевского, касающееся крови, которым он занимался в годы заключения (его монография «Структурный анализ движущейся крови» была опубликована в 1959 г., через два года после освобождения), как ни странно на первый взгляд, по-своему из той же солнечной «оперы». Ведь еще Гиппократ, «космически» восчувствуя человеческий организм и описывая его по стихиям, именно кровь отождествлял со стихией огня. А тут еще и «движущаяся кровь»; статика вещей и явлений мало привлекала ученого и мыслителя. Кстати, в раннем стихотворении Чижевского «Гиппократу» (1915) – а оно начинается торжественно: «Мы дети космоса...» – есть такая строчка: «Кровь общая течет по жилам всей Вселенной».
Сказать слово «влияния» – это схватить самый нерв научных пристрастий Чижевского. Так считал он сам. И здесь также четко прослеживается лично-экзистенциальный первотолчок. Чижевский рос, как мы уже знаем, мальчиком с чрезвычайно чуткой нервной системой и ощущал то, что чаще всего является невеселой привилегией пожилого возраста: его организм болезненно реагировал на всякие изменения условий внешней среды (погоды и т.д.) за день-два до этого. И если близкие, зная о такой его особенности, беспокоились за его здоровье, то сам он подошел к этому факту как экспериментатор и аналитик: стал для начала на себе (а затем и на знакомых добровольцах) изучать природу этих воздействий, обнаружил определенную цикличность колебаний своего самочувствия, ее связь с процессами, происходившими на его любимой звезде.
Во время учебы в Москве одновременно в двух институтах – Коммерческом, дававшем основательные знания в точных науках, и в Археологическом, где углубленно изучались гуманитарные науки (одновременно он посещает лекции на медицинском и естественно-математических факультетах Московского университета), Чижевский, следуя совету Циолковского, на несколько лет «зарывается в статистику», изучает старые хроники, летописи, исторические и медицинские сочинения и начинает строить графики и кривые соответствий разного рода земных бедствий и бурных событий: эпидемий, бунтов, войн, революций – циклическим электромагнитным возмущениям на Солнце. И уже в марте 1918 г. защищает на историко-филологическом факультете Московского университета диссертацию на степень доктора всеобщей истории «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». (Кстати, о широте его интересов свидетельствует одобренная за год до того кандидатская диссертация на тему «Русская лирика 18-го века».) Позднее, в 1924 г., краткое и популярное извлечение из выросшего к тому времени до 900 страниц труда было опубликовано в Калуге под заглавием «Физические факторы исторического процесса». И тут разразилась настоящая буря. В отношении этой новаторской работы научный мир резко поляризовался: были горячие ценители, поклонники и среди крупных ученых, и среди общественных деятелей, и среди писателей, но обнаружились и отчаянные хулители. В чем только не обвиняли молодого исследователя: лженаука, возрождение астрологии! – и чего только не требовали: отказаться от своих идей, покаяться и даже совершить «осквернение» собственного сочинения (вот уж поистине вершина критического садизма, непонятно, правда, как такое и произвести!). В калужской газете «Коммуна» (4 апреля 1924 г.) на защиту своего друга выступил Циолковский. Отметив, что в трудах Чижевского впервые экспериментально убедительно в историю «врываются физика и астрономия», он так сформулировал суть этих достижений: «Словом, молодой ученый пытается обнаружить функциональную зависимость между поведением человечества и колебаниями в деятельности Солнца и путем вычислений определить ритм, циклы и периоды этих изменений и колебаний, создавая таким образом новую сферу человеческого знания».
Эта «новая сфера» позднее в исследованиях Чижевского была значительно расширена, влияние солнечной радиации было прослежено на самых различных уровнях. Ибо когда с интервалом в 11 лет начинается на Солнце период особенной активности, всё на Земле приходит в «возмущение» и смятение – от ее стихий: землетрясения, смерчи, наводнения, засухи, от нижайших живых форм: начинают усиленно размножаться вирусы, бактерии, и на человечество обрушиваются уже «эпидемические катастрофы», до высшего и самого чуткого этажа Жизни – человека. Чижевского по праву считают основателем космической биологии, изучающей зависимость всех функций живого от деятельности Солнца и шире – от состояния космоса; эта новая наука у него детализировалась в различные отрасли – космомикробиологию, космо-эпидемиологию, и каждая из них была результатом огромной работы ученого, его содружества с отечественными и зарубежными врачами, физиками, биологами.
Но все же самым оригинальным, заветным ядром исследований Чижевского стала теория гелиотараксии (от гелиос – «солнце» и тараксио – «возмущаю»); ее основной закон, сформулированный ученым в 1922 г., утверждает, что «состояние предрасположения к поведению человеческих масс есть функция энергетической деятельности Солнца». Резкое усиление солнечных потоков, того активно действующего в них агента, который Александр Леонидович назвал z-излучением (ибо природа его еще достоверно не выявлена), приводит через воздействие на нервную и гормонально-эндокринную систему индивидуальных организмов к повышению коллективной возбудимости. Как есть эпидемии холеры и гриппа, существуют и своего рода психические «поветрия», вспышки негативной эмоциональности, агрессивности, экстремального поведения. По теории Чижевского, «бомбардировка» Земли этими солнечными агентами переводит потенциальную нервную энергию целых групп людей в кинетическую, неудержимо и бурно требующую разрядки в движении и действии. Когда нет какой-то объединяющей «идеи», единой цели, куда может устремиться общая нервная возбужденность, а то и взвинченность, возрастают индивидуальные и групповые аномалии поведения: хулиганство, преступность, часто немотивированная, экзальтации, истерии разного рода. А когда есть такая «идея» И в котел общей озабоченности и недовольства, экономического, политического, национального, попадает искра z-излучения, он начинает неожиданно бурлить и переливаться через край. Импульсивно возрастает «социальная раздражимость» масс, и она в своем выходе наружу изменяет, то ускоряя, то замедляя (в зависимости от солнечной фазы), самый темп истории, ритм жизни социума. Как пример можно добавить, что все знаменитые мировые революционные события 1789, 1830, 1848, 1870, 1905, 1917, 1941 гг. да и наше «перестроечное» время со всеми его стихийными, политическими и национальными катаклизмами приходятся на годы активного солнца, интенсивнейшего пятнообразования на нем. Чижевский подсчитал, что в период минимальной солнечной активности наблюдается и минимум массовых движений – 5%, а во время максимума – 60%.
При всей присущей Чижевскому мощи теоретического обобщения в нем жила огромная страсть к экспериментальной работе, причем такой, которая давала бы немедленный практический эффект. Так было и с серией его опытов по положительному влиянию на живые организмы, и человека в том числе, отрицательно ионизированного воздуха. Первую лабораторию этого рода он устроил уже осенью 1918 г. у себя на дому в Калуге, а с 1924 по 1931 г. продолжал исследования в приютившей его Зоопсихологической лаборатории известного дрессировщика Владимира Дурова.
Когда читаешь тексты Чижевского, не только поэтические, но и научные, всегда прекрасно написанные, живые и образные, может показаться, что вы имеете дело с натуралистом сугубо пантеистического склада, гениально чувствовавшим согласие космических и земных ритмов, «созвучье полное в природе», удивительный математический расчет, лежащий в основе мироздания, особую гармонию Целого, даже если она великолепно-равнодушна к индивидуальному существованию, таит в себе темные, разрушительные стороны. Что же остается делать человеку – созерцать, познавать и покориться? Вовсе нет! Вторгнуться в природу вещей с благодетельной для человека коррекцией: от воздуха, которым мы дышим (создать такой, который способствовал бы нашей жизнестойкости и долголетию), до вредоносной солнечной и космической радиации (найти способы защиты) – такова была практическая цель исследований Чижевского. «Для того чтобы победить природу, надо ее изучать, и притом изучать до возможной глубины. Без этого глубокого изучения победа над природой невозможна и попытки борьбы с природой бессмысленны», – читаем мы в докладе ученого 1939 г.
Интересно, что в центре книги «Вся жизнь» почти наравне с самим автором по отведенному ей вниманию высится фигура Циолковского. «В моей личной научной деятельности Константин Эдуардович сыграл очень большую роль». Характерна эта цепочка непосредственной личностной преемственности общения мыслителей-космистов, которая идет от Федорова к Циолковскому, а от последнего к Чижевскому. Те убеждения и цели, которые Чижевский считал верными и ценными, даже если они не принадлежали ему лично, он защищал с исключительным упорством и энергией. Так, он много сделал для распространения идей и изобретений Циолковского, в частности помог отстоять его научный приоритет в области ракеты перед зарубежными конкурентами. В 1923 г. по инициативе Чижевского была срочно переиздана почти не известная на родине, а тем более за границей работа Константина Эдуардовича 1903 г. «Исследование космических пространств реактивными приборами» (во втором издании с предисловием Чижевского, специально переведенным на немецкий язык, кстати, его отцом Леонидом Васильевичем, она называлась «Ракета в космическом пространстве»).
В отличие от одинокого, замкнутого в себе Циолковского, у Чижевского с юности и все 20-30-е гг. был большой круг общения, и академический, профессорский, и писательский. С 1915 г. он в гуще литературной жизни, знакомится с Л. Андреевым, А. Куприным, А. Толстым, И. Северяниным, посещает литературные кафе и вечера. В 1920 г. происходят его встречи с Горьким и Брюсовым, их чрезвычайна заинтересовали космические проекты Циолковского и идеи самого Александра Леонидовича. Ему покровительствует Луначарский, он в постоянной научной связи и переписке с крупными отечественными и иностранными учеными. В 20-е гг., несмотря на критику, теории Чижевского широко обсуждались и даже восторженно принимались многими, а некоторые видели в них обнаружение новых материалистических факторов, определяющих динамику мировой истории. В следующем десятилетии, когда понимание развития человека и общества уже жестко улеглось в прокрустово ложе социально-классовых детерминизмов, всякие там «космобиологические» параметры были решительно отброшены как вредная мистика. И так не только с историей, но и с медициной: как это, скажем, эпидемии могут зависеть от каких-то солнечных пятен, а не исключительно от бедности и антисанитарии?!
Работы Чижевского издаются преимущественно на иностранных языках за рубежом, там же он становится членом академий, признается выдающимся новатором в науке. В мае 1939 г. его избирают одним из почетных президентов Первого международного конгресса по биофизике и биокосмике, который состоялся в сентябре того же года в Нью-Йорке. Тогда же его выдвинули на соискание Нобелевской премии «как Леонардо да Винчи двадцатого века». Но на этот конгресс его снова не пустили. Съезд же принял специальный меморандум по поводу отсутствующего Председателя: «Гениальные по новизне идей, по широте охвата, по смелости синтеза и глубине анализа труды поставили профессора Чижевского во главе биофизиков мира и сделали его истинным Гражданином мира, ибо труды его – достояние Человечества». Да, судьба такого «Гражданина мира» не могла не быть уже предрешена. Через два года, в самом начале 1942 г., он был арестован. Пропало сто пятьдесят папок с ценнейшими научными материалами, навеки исчез рукописный труд в сорок печатных листов «Морфогенез и эволюция с точки зрения теории электронов», выросший из работы ученого над аэроионами (а каждой строчкой этого выношенного двумя десятилетиями труда Чижевский, по его словам, дорожил и гордился).
Впереди были 15 тяжелейших лет, проведенных сначала на Северном Урале, потом в Караганде. Может быть, интенсивнее всего именно в тюрьме уходит он от окружающей его дикой реальности во внутренний храм своей возвышенно-философической поэзии. Именно она, великий терапевт души, помогает выжить. Рядом со строгими, чеканными строками его «Космических сонетов» 1943 г. соседствуют такие записи: «Холод, +5 в камере, ветер дует насквозь. Жутко дрогнем. Кипятку не дают». Он крепится образами великих людей, героических мучеников науки и искусства: Сократа, Лобачевского, Микеланджело, Бетховена, им посвящая свои стихи. Оживают и отрадные детские впечатления от культурных святынь («Отроком зорким бродя по музеям Европы...»), перегоняясь уже в высокие образ и мысль. Углубляется он в натурфилософские медитации, вдохновленные его научным видением и музой любимого Тютчева.
И уже в Караганде в конце 40-х – начале 50-х гг. занимается создаваемой «по памяти» пейзажной акварелью (сохранилось около четырехсот работ, более ранние его живописные произведения, оличеством до двух тысяч, разной техники, от масла до пастели, пропали, как и многие рукописи, все при тех же превратных обстоятельствах его жизни). В своих полотнах

Александр Леонидович (как и многие мыслители-космисты, и Вернадский, и Циолковский) принадлежал к особому типу естествоиспытателя, можно сказать, архаичному для нашего времени предельной специализации. Научная трезвость, компетентность, экспериментальная и теоретическая строгость – все эти обязательные для настоящего ученого качества – налицо, но вместе и эстетическое и даже своего рода благоговейно-религиозное чувство перед величием и тайной Жизни, неба, солнца, Вселенной. Любой занимающий его объект миря – не престо материал для холодного исследовяния, расчленения и логического вывода, а фрагмент единого многообразного Целого, восчувствуемого и познаваемого максимумом отпущенных природой способностей: и рационально-аналитических, и интуитивно-художественных. Абсолютно прав был крупный советский ученый Д.И. Блохинцев, когда, оценивая многогранную личность и труды Чижевского, утверждал, что «необходимой и неотъемлемой чертой» его «были не столько успехи в той или иной науке, а скорее создание мировоззрения. Наука, поэзия, искусство – все это должно было быть лишь частью души великого гуманиста и его деятельности».

В наши дни в области наук о природе происходит процесс, имеющий огромную важность: применение методов одних наук к другим и синтетическое объединение различных наук воедино. Так все плотнее и плотнее связываются математика, физика, химия, биология и т.д.
Но есть области науки, куда с огромными трудностями проникают лучи этого благодетельного синтеза. Ряд наук с огромным упорством отстаивает свою независимость, охраняет свои многолетние позиции и границы, несмотря на все учащающиеся атаки «противников» – накопление новых фактов, открытие новых законов.
В то же время где-то в глубоком подполье, в подземных пластах человеческой мысли, мало-помалу накапливаются наблюдения огромной важности и созревают первоначальные порывы грандиозных обобщений будущего. И если кто-то, стоя на поверхности этого оживающего океана, зло и остро смеется над потугами связать мир астрономических и мир биологических явлений, то в глубине человеческого сознания уже много тысячелетий зреет вера, что эти два мира, несомненно, связаны один с другим. И эта вера, постепенно обогащаясь наблюдениями, переходит в знание. Нас перестают уже удивлять самые поразительные факты, самые поразительные открытия.
Теперь мы можем сказать, что в науках о природе идея о единстве и связанности всех явлений в мире и чувство мира как неделимого целого никогда не достигали той ясности и глубины, какой они мало-помалу достигают в наши дни. Но наука о живом организме и его проявлениях пока еще чужда расцвету этой уникальной идеи единства всего живого со всем мирозданием. Создается впечатление, что органический мир словно вырван из природы, поставлен насильно над нею и вне ее. Для живого, согласно такому воззрению, существует только одна среда – само живое. С окружающим же миром – всею природою – оно может как бы не считаться, ибо живое – победитель мертвого. И при таком воззрении живое перестает быть реальностью и становится подобным абстракции, геометрической форме или математическому знаку. Увы, оно стало весьма характерным и рушится лишь тогда, когда какие-либо стихийные катастрофы, мировые катаклизмы разражаются над живым. Только тогда, когда миллионы человеческих жизней в одно мгновение смываются раскаленной лавой или волнами океана, при землетрясениях или когда целые области гибнут от голода, только тогда человек смутно начинает сознавать ничтожество своей физической организации перед физическими силами природы.
А между тем всегда, от начала веков как в бурные, так и в мирные эпохи своего существования, живое связано со всей окружающей природой миллионами невидимых, неуловимых связей – оно связано с атомами природы всеми атомами своего существа. Каждый атом живой материи находится в постоянном непрерывном соотношении с колебаниями атомов окружающей среды – природы; каждый атом живого резонирует на соответствующие колебания атомов природы. И в этом воззрении сама живая клетка является наиболее чувствительным аппаратом, регистрирующим в себе все явления мира и отзывающимся на эти явления соответствующими реакциями своего организма.
Итак, возникает основной вопрос: можем ли мы изучать организм как нечто обособленное от космотеллурической среды? Нет, не можем, ибо живой организм не существует в отдельности, вне этой среды, и все его функции неразрывно связаны с нею.
Действительно, физические и химические процессы, происходящие в окружающей среде, вызывают соответствующие изменения в физико-химических, физиологических отправлениях живого организма, отражаясь на его сердечно-сосудистой, его нервной деятельности, на его психике и, наконец, на его поведении. Так, колебания атмосферного давления, степень влажности воздуха, температура, количество солнечного света и т.д. вызывают колебания в состоянии многих функций нашего организма, нашего нервного тонуса, в той или иной степени и в конце концов отражаясь на нашем поведении.
Бесконечно велико количество и бесконечно разнообразно качество физико-химических факторов окружающей нас со всех сторон среды – природы. Мощные взаимодействующие силы исходят из космического пространства. Солнце, Луна, планеты и бесконечное число небесных тел связаны с Землею невидимыми узами. Движение Земли управляется силами тяготения, которые вызывают в воздушной, жидкой и твердой оболочках нашей планеты ряд деформаций, заставляют их пульсировать, производят приливы. Положение планет в Солнечной системе влияет на распределение и напряженность электрических и магнитных сил Земли.
Но наибольшее влияние на физическую и органическую жизнь Земли оказывают радиации, направляющиеся к Земле со всех сторон Вселенной. Они связывают наружные части Земли непосредственно с космической средой, роднят ее с нею, постоянно взаимодействуют с нею, а потому и наружный лик Земли, и жизнь, наполняющая его, являются результатом творческого воздействия космических сил. А потому и строение земной оболочки, ее физикохимия и биосфера являются проявлением строения и механики Вселенной, а не случайной игрой местных сил. Наука бесконечно широко раздвигает границы нашего непосредственного восприятия природы и нашего мироощущения. Не Земля, а космические просторы становятся нашей родиной, и мы начинаем ощущать во всем ее подлинном величии значительность для всего земного бытия и перемещения отдаленных небесных тел, и движения их посланников – радиаций...
Эти радиации представляют собой прежде всего электромагнитные колебания различной длины волн и производят световые, тепловые и химические действия. Проникая в среду Земли, они заставляют трепетать им в унисон каждый ее атом, на каждом шагу они вызывают движение материи и наполняют стихийной жизнью воздушный океан, моря и суши. Встречая жизнь, они отдают ей свою энергию, чем поддерживают и укрепляют ее в борьбе с силами неживой природы. Органическая жизнь только там и возможна, где имеется свободный доступ космической радиации, ибо жить – это значит пропускать сквозь себя поток космической энергии в кинетической ее форме.
Помимо электромагнитных колебаний к Земле устремляются потоки мельчайших частиц диссоциированной материи – электроны и ионы, несущие также огромные запасы космической энергии. Увы, мы немного знаем о роли этих частиц в жизни наружных оболочек Земли, но, несомненно, они играют очень значительную роль, о которой мы можем только догадываться.
Таким образом, подавляющее большинство физико-химических процессов, разыгрывающихся на Земле, представляют собой результат воздействия космических сил, которые всецело обусловливают жизненные процессы в биосфере. Поэтому последнюю совершенно необходимо признать местом трансформации космической энергии.
Наше научное мировоззрение еще очень далеко от истинного представления о значении для органического царства космических излучений, которые, кстати сказать, лишь частично изучены нами. Быть может, они и определяют в известных пределах эволюцию органического мира. Но мы в этой области не знаем ровно ничего, кроме того, что эти излучения не могут не оказывать на нас влияние – они должны оказывать его, ибо вся органическая жизнь возникла и развивалась под их влиянием и каждая клетка охвачена и проникнута радиациями, идущими из космических бездн.
Космическое излучение, проникающее через толстые пластины свинца, как через тонкую кисею, проникает и в поверхностные слои Земли, и в глубокие слои морей и океанов. Там, под толстыми слоями воды, во мраке вечной ночи, развивается причудливая и разнообразная жизнь глубоководной флоры и фауны. Невольно хочется спросить себя: как действуют на глубоководные растения и животных достигающие до них электромагнитные волны большой жесткости космической радиации? Мы знаем, что космическое излучение не однородно. Оно состоит из целого ряда отдельных компонентов, обладающих различной проникающей способностью, различной «жесткостью». Разные составные части земной материи, отзываясь по-своему на каждый компонент, должны были проявить себя вовне в различных формах. Эта проникающая радиация тормозит физиологические функции организма, как это было показано в моих опытах 1928–1929 гг. Я уверен, что дальнейшее изучение этого вопроса может иметь практическое значение, что и было мною освещено в специальных статьях. Конечно, это дело будущего. Гораздо ближе к современной медицине стоят другие вопросы.
Мы лишь отчасти приблизились к пониманию той огромной роли, которую играет солнечная радиация в органической жизни Земли.
Что представляет собой Солнце для современного человечества? Не более как явление природы, подобное многим другим! Не тем оно было для наших предков... Солнце было для них мощным богом, дарующим жизнь, светлым гением, возбуждающим умы. Вся мифология древних проникнута слепящей символикой солнечного луча! Интуиция наших предков привела их к тому же заключению, что и завоевания науки! Люди и все твари земные являются поистине «детьми Солнца» – созданием сложного мирового процесса, имеющего свою историю, в котором наше Солнце занимает не случайное, а закономерное место наряду с другими генераторами космических сил.
Несомненно, что главным возбудителем жизнедеятельности Земли является излучение Солнца, весь его спектр, начиная от коротких – невидимых – ультрафиолетовых волн и кончая длинными – красными, а также все электронные и ионные потоки. Они служат «передатчиками состояний» и заставляют каждый атом поверхностных оболочек Земли резонировать созвучно тем вибрациям, которые возникли на центральном теле нашей системы. В великом разнообразии проявлений этого резонанса, где наша мысль тонет в беспредельности форм, красок и звуков, мы мало-помалу научились понимать связность и общность разрозненных явлений и представлять их в единой синтетической картине жизни солнечно-земного мира. Великолепие полярных сияний, цветение розы, творческая работа, мысль – все это проявление лучистой энергии Солнца.
Наука уже знает, что жизнь на Земле обязана главным образом солнечному лучу. Но еще мало ученых, которые до конца поняли эту истину!
Однако не только при помощи фотосинтеза или термических явлений Солнце осуществляет свое внедрение в частную жизнь Земли, оно имеет еще и другие пути – непосредственное влияние некоторых частей солнечного спектра на физико-химические превращения и на жизнедеятельность микроорганизмов, растений и животных. В понимании этого влияния наука только начала прокладывать свои пути. Несомненно, в солнечном спектре мы имеем целый ряд «специфических» лучей, оказывающих на живые организмы совершенно особое действие. К лабораторно-экспериментальному выяснению этого глубоко интересного вопроса я приступил в 1928–1929 гг. и получил доказательства, вполне подтверждающие только что выраженную мысль.
Как солнечные излучения, так и космические являются главнейшими источниками энергии, оживляющей поверхностные слои земного шара. Возникает вопрос: в какой мере зависит живая клетка в своей физиологической жизни от притока космических радиаций и от тех колебаний или изменений, которым космическая радиация подвержена?
Вплоть до самого последнего времени на этот вопрос мы могли дать только отрицательный ответ. Однако под напором экспериментальных доказательств наука подготовила почву для принятия нового воззрения и заставила предпринять новые исследования в области изучения вопроса о непосредственном влиянии энергетических излучений космоса на наш организм и отдельные его части.
Изучение внеземных влияний могло быть осуществлено при условии большого числа статистических данных. В то время как данные наблюдения за отдельными индивидами не могли дать нам ничего верного в этом направлении, изучение одновременных явлений в больших массах, изучение одновременных реакций в одно и то же время помогли нам обнаружить некоторые закономерности, причину которых и следовало выяснить. Если в самом деле на человека накладывают свой отпечаток космические силы, то следовало бы сделать допущение, что в одно и то же время в самых различных участках земного шара среднее направление тех или иных явлений будет приблизительно одним и тем же (заболеваемость, смертность, нервно-психическая возбудимость и т.д.).
В 1915 г. я впервые поставил вопрос и стал его изучать. Ход исследований был крайне затруднен из-за многих обстоятельств. Все же мне выпало счастье обнаружить целый ряд замечательных явлений соответствия между разными феноменами в больших массах и космическими факторами. Статистические исследования с несомненностью показали, что в те годы, в те месяцы, в те недели, когда электромагнитная и радиоактивная деятельность Солнца увеличивается, на Земле, на разных ее материках, в различных странах, увеличивается также число массовых феноменов, например заболевания, смертность от разных причин и многое другое. Обнаруживается замечательное соответствие между солнечными и земными феноменами.
В то же время мы знаем, что периодическая деятельность Солнца – процесс не вполне самостоятельный. Есть веские основания думать, что он находится в определенной зависимости от размещения планет Солнечной системы в пространстве, от их констелляций по отношению друг к другу и к Солнцу. Уже много лет назад астрономы предположили, что Солнце представляет собой тончайший инструмент, который учитывает все влияние планет соответственными изменениями. Таким образом, и земные явления, зависящие от периодической деятельности Солнца, стоят, так сказать, под контролем планет, которые могут быть во много раз более удалены от нас, чем Солнце. Исследования, произведенные с целью выяснения влияния планет на деятельность Солнца, дали вполне положительные результаты: в периодах солнечной активности обнаруживаются периоды планетных движений.
Но и это еще не предел возможных догадок. Вся Солнечная система является частью системы звезд нашей звездной галактики. Быть может, и эруптивная деятельность*264 на Солнце, и биологические явления на Земле суть соэффекты одной общей причины – великой электромагнитной жизни Вселенной. Эта жизнь имеет свой пульс, свои периоды и ритмы. Наука будущего должна будет решить вопрос, где зарождаются и откуда исходят эти ритмы.
Статистически мною было установлено, что солнечные пертурбации оказывают непосредственное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы человека, а также на микроорганизмы. Но можем ли мы ограничивать данную область явлений только теми закономерностями, которые были обнаружены? Отнюдь не можем. Мы должны постараться углубить наши исследования по изучению космических явлений. В науке всегда случается так, что вначале обнаруживаются самые грубые явления, прямо бьющие в глаза. К категории таких грубых явлений и следует причислить явления, обнаруженные нами. Но это только начало науки, ее первые шаги, первая попытка. Мы еще очень далеки от вскрытия тонких деталей, которые, несомненно, существуют в сложном комплексе влияния космической среды на человека. В этой области мы еще ничего не знаем. Более того, вряд ли мы можем сейчас что-либо верно предсказать или верно предвидеть. Делая такие попытки, мы всегда рискуем очутиться на ложном пути.
В нас должна быть лишь уверенность в том, что процесс развития органического мира не является процессом самостоятельным, автохтонным, замкнутым в самом себе, а представляет собой результат действия земных и космических факторов, из которых вторые являются главнейшими, так как они обусловливают состояние земной среды. В каждый данный момент органический мир находится под влиянием космической среды и самым чутким образом отражает в себе, в своих функциях перемены или колебания, имеющие место в космической среде. Мы легко можем себе представить эту зависимость, если вспомним, что даже небольшое изменение в температуре нашего Солнца должно было бы повлечь самые сказочные, невероятные изменения во всем органическом мире. А таких важных факторов, как температурный, очень много: космическая среда несет к нам сотни различных, постоянно изменяющихся и колеблющихся время от времени сил. Одни электромагнитные радиации, идущие от Солнца и звезд, могут быть разделены на очень большое число категорий, отличающихся одна от другой длиною волны, количеством энергии, степенью проницаемости и многочисленными другими свойствами. Корпускулярные, радиоактивные радиации, космическая пыль, газовые молекулы, которыми наполнено всё пространство мира, являются также могущественными создателями земной жизни и вершителями ее судеб. Изменение некоторых качеств космической или проникающей радиации могло бы мгновенно уничтожить всякую жизнь на Земле или до неузнаваемости изменить ее формы. Ультрафиолетовые лучи Солнца с короткой длиной волны могли бы губительно повлиять на всю биосферу, если бы она не задерживалась ничтожной толщины слоем озона в верхних областях атмосферы. Изменение в количестве притекающих к Земле электронов или космической пыли должно было бы так отразиться на метеорологических явлениях, что вызвало бы самые непредвиденные пертурбации в растительном, животном и человеческом мире.
Мы в качестве примеров берем крайние возможности, вероятность осуществления которых невелика. Вселенная находится в динамическом равновесии, и приток тех или иных энергетических факторов совершается постоянно: одни постепенно увеличиваются или уменьшаются в своем количестве, другие испытывают периодические или апериодические вибрации. Земная органическая жизнь испытывает на себе все эти изменения в энергетических функциях космической среды, так как живое существо по своим физиологическим свойствам является наиболее чувствительным резонатором. Поток электронов и протонов, вылетевший из жерла солнечного пятна и пролетающий мимо Земли, вызывает огромные возмущения во всем физическом и органическом мире планеты: вспыхивают огни полярных сияний. Землю охватывают магнитные бури, резко увеличивается число внезапных смертей, заболеваний, случаев сумасшествия, эпилептических припадков, несчастных случаев вследствие шока в нервной системе и т.д.
Чрезвычайно велика роль и электромагнитных колебаний, излучаемых пятнами или протуберанцами и достигающих поверхности Земли. Совершенно особое значение следует придать электромагнитным колебаниям с короткой длиной волны. Эти колебания могут порождаться на поверхности Солнца в области пятен и протуберанцев и достигать поверхности Земли благодаря своей большой проницаемости. Как показали исследования последних лет над биологическим действием радиаций с короткой волной, эти радиации обладают мощным биологическим и физиологическим действием, а следовательно, оказываются особо сильными агентами внешней среды. Если возмущенные места на Солнце продуцируют во внешнее пространство короткие электромагнитные волны, достигающие поверхности Земли, то, несомненно, эти волны и являются одним из тех мощных биологических деятелей, которыми так богата солнечная радиация. Различные клетки живых организмов и различные одноклеточные организмы по-разному настроены для приема энергии коротковолнового излучения Солнца.
Итак, мы окружены со всех сторон потоками космической энергии, которая притекает к нам от далеких туманностей, звезд, метеорных потоков и Солнца. Было бы совершенно неверным считать только энергию Солнца единственным созидателем земной жизни в ее органическом и неорганическом плане. Следует думать, что в течение очень долгого времени развития живой материи энергия далеких космических тел, таких, как звезды и туманности, оказала на эволюцию живого вещества огромное воздействие. Развиваясь под непрерывными потоками космических радиаций, живое вещество должно было согласовать с ними свое развитие и выработать соответствующие приемники, которые бы утилизировали эту радиацию, или защитные приспособления, которые бы охраняли живую клетку от влияния космических сил. Но несомненно лишь одно: живая клетка представляет собой результат космического, солярного и теллурического воздействий и является тем объектом, который был создан напряжением творческих способностей всей Вселенной. И кто знает, быть может, мы, «дети Солнца», представляем собой лишь слабый отзвук тех вибраций стихийных сил космоса, которые, проходя окрест Земли, слегка коснулись ее, настроив в унисон дотоле дремавшие в ней возможности.
Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космического сердца – этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца и планет.
За огромный промежуток времени воздействия космических сил на Землю утвердились определенные циклы явлений, правильно и периодически повторяющиеся как в пространстве, так и во времени. Начиная с круговорота атмосферы, углекислоты, океанов, суточной, годовой и многолетней периодичности в физико-химической жизни Земли и кончая сопутствующими этим процессам изменениями в органическом мире, мы всюду находим циклические процессы, являющиеся результатом воздействия космических сил. Если бы мы попытались графически представить картину многообразия этой цикличности, мы получили бы ряд синусоид, накладывающихся одна на другую или пересекающихся одна с другой. Все эти синусоиды в свою очередь оказались бы изрытыми мелкими зубцами, которые также представляли бы зигзагообразную линию, и т.д. В этом бесконечном числе разной величины подъемов и падений сказывается биение общемирового пульса, великая динамика природы, различные части которой созвучно резонируют одна с другой.
Если бы мы продолжали наш анализ далее, то увидели бы, что максимумы и минимумы космических и геофизических явлений согласно совпадают с максимумами и минимумами тех или иных явлений в органическом мире. Мы увидели бы, что один цикл биологических явлений по времени наступления максимумов и минимумов его хорошо совпадает с часами максимальных или минимальных напряжений в ходе тех или других космических или геофизических элементов. Максимумы и минимумы другого биологического цикла совпадают с максимумами и минимумами того или иного космического или геофизического явления. И вот при виде всех этих дружно вздымающихся и дружно падающих кривых наше воображение представляет себе животрепещущую динамику космотеллурической среды в виде безграничного океана, покрытого рядами нарастающих и рушащихся волн, среди которых жизнь и поведение отдельного организма уподобляются незаметной и безвольной щепке, повинующейся в своем поведении, как и в настоящем океане, всем капризам окружающей его физической стихии.
Перед взорами естествоиспытателей в огромном океане земной жизни открывается картина грандиозных и бурных волнений, среди которых отдельный индивид исчезает бесследно. Плавая на утлом челноке по этому морю и преодолевая напор каждой набегающей волны, пловец погружен в шум и смятение бушующей стихии, и горизонт его ограничен ближайшею громадой волн. Море представляется ему хаотическим и беззаконным существом. Но стоит ему подняться высоко над бурной поверхностью, как картина, обозреваемая им, совершенно изменяется. Шум и смятение уже больше не тревожат его, и с высоты он видит, как величественно и мерно движутся громады волн, то подымаясь, то опускаясь, и в движении этом он отмечает строгую гармонию.
Хаотическая структура тех или иных явлений в его динамических формах с переменной точки зрения претерпевает то же изменение и превращается в гармоническое движение, образуя ряды правильных синусоидных колебаний, подчиненных в своем движении во времени неодолимым силовым колебаниям космической или солнечной энергии.
Всматриваясь в эту новую развернувшуюся перед нами картину, мы невольно поражаемся тому строгому математическому совершенству, которое, несомненно, проявляется в колебаниях движения указанных явлений во времени, казавшихся ранее нам произвольными и случайными.
Мы видим, как строжайшие качественные и количественные законы управляют их течением, и мы начинаем ощущать всю свою слабость перед этой стихийной жизнью, подчиненной непреодолимым силам, управляющим ими изнутри и извне.
Среди великого разнообразия массовых явлений в разные времена перед нами все ясней и ясней обнаруживается стихийный ритм в их жизни, одновременность в биении их пульса, одновременные смены мощных подъемов и глубоких падений.
Но не будем ограничивать наше исследование пределами Солнечной системы и признаемся в том, что в формировании массовых явлений во всех их планах не могут не участвовать и другие силы космоса, пока еще скрытые от нас нашим неведением. Медленными, но верными шагами наука подходит к разоблачению основных источников жизни, скрывающихся в отдаленнейших недрах Вселенной. И перед нашими изумленными взорами развертывается картина великолепного здания мира, отдельные части которого связаны друг с другом крепчайшими узами родства, о котором смутно грезили великие философы древности.
В свете этого воззрения мы видим, как из инертного и аморфного вещества Земли возникают сложнейшие системы, части которых находятся в тончайшем резонансе с различными областями мира. И невольно приходит на ум та древняя идея, что и наше познание явлений природы есть не что иное, как воспринятый нашими органами познания отзвук истинных процессов, происходящих во Вселенной.
На все суждения и выводы естествоиспытателей до недавнего времени ложился определенный отпечаток суждений об автономности жизни биологических объектов, об их независимости от внешних сил мира, об особых путях, по которым движется органический мир. Этот отпечаток систематически тормозил свободное изучение вопроса, и всё, что стояло в противоречии с ним, считалось еретичеством или бредом, и этому всячески противодействовали. Наука должна вступить на новый, не зависящий от предвзятых представлений путь исследования и вести бой с косными традициями во имя свободного изучения природы, приближающего нас к истине.
Но, с другой стороны, мы должны подчеркнуть и великое значение науки, изучающей явления природы. Несомненно, человек овладевает силами окружающего нас мира, учится управлять ими, заставляя их работать в свою пользу, или научается защищаться от них, если они несут ему разрушительные или вредные влияния. В покорении природы и победе над ней заключается конечный итог, конечное торжество человеческого знания.
Но для того чтобы уметь победить природу, надо ее изучить, и притом изучить до возможной глубины. Без этого глубокого изучения победа над природой невозможна и попытки бороться с ней бессмысленны.
Мои статистические и экспериментальные работы показали громадную роль внеземных, солнечных, специфических радиаций – электромагнитных и корпускулярных – в возникновении и развитии эпидемических заболеваний, человеческой патологии и смертности. Едва-едва астрономия и физика открыла те или иные явления, как оказалось, что биосфера Земли стоит в известной зависимости от них: человек, животные, микроорганизмы, растения испытывают на себе их действие.
Эпидемиологи отворачивались от изучения этих явлений, как будто это их не могло интересовать. Космическое и солярное излучения, корпускулярное и коротковолновое, электрические и магнитные явления в земной атмосфере и ее коре, влияющие на жизнь биосферы, стоят вне поля зрения медицины. Как отстала она от современной астрономии, астрофизики, геофизики и т.д.! Древние врачи отличались большей широтой и терпимостью.
Существует тенденция свести основные явления эпидемиологии только к социальным факторам. Несмотря на могущество последних, что доказано с абсолютной точностью, нельзя пренебрегать изучением и других факторов, которые в какой-то мере могут оказывать свое влияние на ход и развитие эпидемического заболевания. Нужно полагать, что дальнейшие исследования покажут, какое место в ряду социально-экономических и биологических факторов надлежит занимать влияниям физико-химической среды вообще, радиациям солярным и космическим и атмосферному электричеству и земному магнетизму в частности. И каково бы это место ни было, ему в общем динамическом комплексе факторов, обусловливающих эпидемии, наукой должно быть уделено свое внимание.
Однако уже в настоящее время можно сказать, что в отношении целого ряда инфекционных заболеваний влияние социально-экономических условий не имеет основного значения. Так, например, гриппозные эпидемии в противоположность холере, дизентерии, тифу возникают весьма часто вне какой-либо определенной зависимости от социально-экономических условий и охватывают все слои населения. В развитии ряда эпидемий мы видим чрезвычайно разнообразную игру вируса, весьма прихотливую его изменчивость на протяжении целых десятилетий, все попытки объяснения которой в общем потерпели фиаско, оставаясь до настоящего времени неразгаданными.
Будем надеяться, что благодаря дружным усилиям и международной солидарности ученых науке удастся научиться бороться с эпидемиями, побеждать их и тем самым удлинять жизнь человека до возможно большего предела.
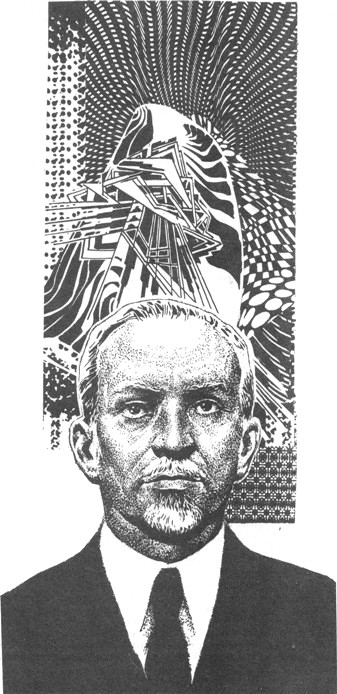 Судьба Николая Григорьевича Холодного, известного советского ботаника и микробиолога, внешней своей канвой, вероятно, мало чем отличалась от судеб множества других ученых-натуралистов, скромных, незаметных подвижников, что любовно и бережно, терпеливо и неустанно трудятся «среди природы и в лаборатории» (именно так, кстати, и называлась одна из книг Н.Г. Холодного), ища ключи к заветным дверцам мироздания. Детская любовь к естествознанию, увлечение ботаникой и орнитологией приводят юношу в Киевский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. С тех пор начинаются годы работы по 14 часов в сутки, буквально до самой старости: опыты, наблюдения, исследования, экспедиции, биологические станции. Параллельно он читает лекции, ведет практические занятия со студентами, создает прекрасную микробиологическую лабораторию в университете, заведует сектором физиологии растений в Институте ботаники. И при этом пишет научные труды по физиологии и экологии растений, микробиологии и почвоведению, биофизике и биогеохимии. Разрабатывает учение о гормонах растений и гормональную теорию тропизмов. Семьи у него нет, он целиком погружен в наблюдения, эксперименты, научную деятельность. Последние годы жизни Николай Григорьевич проводит на Днепровской биологической станции, в маленьком домике, который специально выстроили для него, ее старожила и бессменного обитателя. До самой кончины продолжает привычные исследования, бродит по окрестностям, пишет...
Судьба Николая Григорьевича Холодного, известного советского ботаника и микробиолога, внешней своей канвой, вероятно, мало чем отличалась от судеб множества других ученых-натуралистов, скромных, незаметных подвижников, что любовно и бережно, терпеливо и неустанно трудятся «среди природы и в лаборатории» (именно так, кстати, и называлась одна из книг Н.Г. Холодного), ища ключи к заветным дверцам мироздания. Детская любовь к естествознанию, увлечение ботаникой и орнитологией приводят юношу в Киевский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. С тех пор начинаются годы работы по 14 часов в сутки, буквально до самой старости: опыты, наблюдения, исследования, экспедиции, биологические станции. Параллельно он читает лекции, ведет практические занятия со студентами, создает прекрасную микробиологическую лабораторию в университете, заведует сектором физиологии растений в Институте ботаники. И при этом пишет научные труды по физиологии и экологии растений, микробиологии и почвоведению, биофизике и биогеохимии. Разрабатывает учение о гормонах растений и гормональную теорию тропизмов. Семьи у него нет, он целиком погружен в наблюдения, эксперименты, научную деятельность. Последние годы жизни Николай Григорьевич проводит на Днепровской биологической станции, в маленьком домике, который специально выстроили для него, ее старожила и бессменного обитателя. До самой кончины продолжает привычные исследования, бродит по окрестностям, пишет...
Но уникальна, заповедна внутренняя его судьба, та история личности, что не фиксируется скупыми строками биографической справки и энциклопедической статьи, а прячется в желтые от времени страницы дневника, проглядывает сквозь строки личных воспоминаний, писем, художественных автобиографий. «Воспоминания и мысли натуралиста», написанные Н.Г. Холодным, – попытка рассказать свою жизнь как бы изнутри, в неразрывности внешних и внутренних событий, фактов биографии и этапов духа и души. Читая эту книгу, понимаешь, наконец, почему он, зрелый ученый и академик. всю жизнь занимавшийся сугубо специальными вопросами, поставивший тысячи экспериментов, целых 4 года из уже считанных, оставшихся ему лет посвящает работе над философскими заметками «Мысли натуралиста о природе и человеке», пытаясь дать свой, всей жизнью выношенный ответ «на вечные вопросы о бытии человека и Вселенной».
Еще «на заре туманной юности» его одинаково сильно влекло и к естествознанию, и к философии. И сделав выбор в пользу изучения природы, он никогда не угашал духа. Будучи в университете – посещал курсы по философии и психологии, в философском семинаре готовил доклады на этические темы, участвовал во всевозможных диспутах. Да и свою задачу, задачу натуралиста, никогда не считал отделенной непереходимой пропастью от проблем общефилософских и общечеловеческих. Его идеал – «мыслящий натуралист», главная заповедь которого – «не быть пассивным созерцателем, а поддерживать в себе неугасимый огонь живой деятельности мысли, умело ставящей природе вопросы и настойчиво добивающейся ясного и однозначного ответа на них». Не просто глядеться в осколки мирового зеркала, а восстановить его в собственном сознании, понять роль человека в истории и грядущей судьбе космоса.
Наблюдения, эксперименты, даже обычная учеба – все устремляло Н.Г. Холодного к предельно широким обобщениям. «В сознании постепенно вырисовывалась все более отчетливо картина мира, космоса во всем его красочном многообразии и во всей его загадочности. В то же время росла вера в силу человеческого разума, в его способность разгадать все тайны природы, осветить все то, что пока кроется во мраке». Быть может, и самая заветная его мысль о космической сущности человека рождалась во время многочасовых прогулок по лесам, полям, горам, созерцаний небесного свода. Ведь еще мальчиком он вместе с братом соорудил домашнюю обсерваторию и ночами пока еще по слогам разбирал «звездную книгу».
Натуралист, всем существом своим обращенный к живому миру, он противился гордынной оторванности человека от космоса, искусственной его вознесенности над всей живой и неживой природой. Ибо такая установка, быть может, и поднимая человечество в сфере мысли на небывалую высоту, в реальной практике провоцирует на бесчувственное и нередко невежественное вмешательство этого самозваного «хозяина мира» в исконные свои «владения». В брошюре «Мысли натуралиста о природе и человеке» Н.Г. Холодный провозглашает настоящую анафему «антропоцентризму», называет его «основным, «первородным» грехом человеческой мысли», обрекающим на незнание, бессилие, слепоту. Ученый опирается в своих выводах на объективные данные науки, что включает человека в единую эволюцию природы и космоса. Научное мышление мало-помалу вычерчивает перед нами контуры нового мировоззрения – антропокосмизма. Это мировоззрение повествует о внутренней, имманентной связи человека с жизнью природы, пестует в каждой личности «космическое чувство»: чувство живого единения со всем мирозданьем и со всем человечеством «как важнейшим носителем космической жизни на планете», чувство ответственности «за всех и за вся». Антропокосмизм полагает реальную основу человеческой активности и творчеству, поскольку, будучи частью природы, человечество действует в ней как «мощный эндогенный фактор», а такое влияние сильнее и глубже всякого рода внешних воздействий.
Многое в «Мыслях натуралиста...» напоминает идеи Вернадского. Сходство тут не только типологическое, вызванное общностью основных положений активно-эволюционной мысли. Ученые были связаны и биографически. Вместе работали на Днепровской биологической станции, вместе трудились над проектом Украинской академии наук, переписывались. Вернадский довольно сильно повлиял на своего младшего коллегу. По своему мировоззрению Холодный долгое время был законченным дарвинистом и в одной из статей пропел настоящий гимн «естественному отбору», именуя его «творцом живой природы», главной движущей силой эволюции. Первоначально и брошюра его называлась «Мысли дарвиниста о природе и человеке» (курсив наш. – А. Г.). Эту маленькую книжечку, отпечатанную в 1944 г. в Ереване тиражом всего 50 экземпляров, автор тут же посылает Вернадскому. Ученый заинтересованно откликнулся: «Я считаю, что обсуждение этих основных вопросов в науке является чрезвычайно важным в настоящее время, в данный исторический момент». Далеко не со всем был согласен Вернадский в работе Холодного. В качестве ответа в том же 1944 году он публикует небольшую статью «Несколько слов о ноосфере», где более точно, чем Холодный, формулирует представление о характере эволюции и роли в ней человека: кладет в сердцевину эволюционного процесса явление цефализации, говорит о новом, ноосферном его этапе. Причем деятельность человека в биосфере Вернадский не ограничивает лишь познанием ее законов (как это первоначально было у Холодного). Напротив, в творчестве ноосферы, в преображении лика Земли, а в перспективе и всего космоса видит он эволюционную задачу человечества.
Идеи, изложенные Вернадским в этой статье, помогли Холодному сгладить некоторую противоречивость своих постулатов: с одной стороны, человек провозглашался им творческой, устрояющей силой мирозданья, а с другой – вся роль его в миропо-рядке заключалась лишь в приспособлении к природе, умению жить в ней, так сказать, во всеоружии разума и техники. В новый вариант «Мыслей...» (озаглавленных теперь, кстати, «Мыслями натуралиста...», поскольку, по словам ученого, он «опирался уже на более широкую основу») он вводит и понятие цефализации. А в качестве некой сверхзадачи для человечества хотя и достаточно робко, с оговорками, но поставляет именно изменение нынешнего, бессознательного типа существования биосферы, одухотворение материи, торжество разума над «слепыми силами природы». Предполагает он и возможность постепенно распространить власть разума и на «внутренняя» человека, высветлить потаенные уголки психики, регулировать некоторые инстинкты, в том числе и половой, обратив эротическую энергию на творчество и работу сознания.
Нынешний читатель, быть может, найдет в «Мыслях натуралиста...» некоторую излишнюю спрямленность и резкость оценок той философской и религиозной традиции, что объясняла человека не на основе его укорененности в природной жизни, а из бытия духа, ориентировала развитие на высший нравственный идеал. А он действительно не может быть найден в области несовершенного, эволюционирующего сущего, но излучается в мир из сферы должного порядка вещей. У религиозных мыслителей-космистов мы всегда встретим образ благобытия, «конечного идеала», той высшей точки, к которой и устремляется эволюция (вспомните хотя бы точку Омеги у Тейяра де Шардена). Н.Г. Холодный мыслит совершенно иначе. Это тип безрелигиозного мыслителя. Нет для него ничего вне-, а тем более сверхприродного, того, что не подчинялось бы «железным» ее законам. И человек для него, разумеется, всецело природное существо, замкнут тесными рамками сущего. Потому-то и «конечная цель» развития характеризуется в «Мыслях...» весьма и весьма неопределенно, принимая очертания лишь справедливого общественного уклада. А такой «коммунистический рай» хоть он и ближе, и понятнее «эвклидову уму», но от «небесного рая», от абсолюта преображенного мироздания весьма и весьма далек. Берега сущего и должного у Холодного так и остались разведенными, а союза религии и научного знания, который воздвиг бы между ними мост братского, всеобщего дела, он не признавал. И если для Н. Ф, Федорова, В.С. Соловьева, Тейяра де Шардена и других космистов смысл и задача эволюции – в победе над временем, в достижении личного бессмертия, в восстановлении всех когда-либо живших, то для Холодного, атеиста и природопоклонника, личное бессмертие – чепуха, трусливая, эгоистическая уловка. Нет и не может быть ничего индивидуально-вечного, ибо ничего индивидуально-вечного нет в природном порядке. В антропокосмическом человечестве торжествует бессмертие человеческого рода, та относительная, а потому «бессмысленная вечность» (Боратынский), что только и существует в природе, питающей себя миллионами уникальных жизней.
Подпоркой же этой, весьма и весьма хромающей гармонии, исходом для духа, взыскующего бесконечности, становится теория «вечного возвращения», своеобразно соединенная с популярной в марксизме гегелевской идеей развития «по спирали». Люди, события, космические эры – все это непрестанно повторяется в разных точках Вселенной, причем на более совершенном уровне, образуя устремленную в бесконечность спираль эволюции.
Читая работу Холодного, следует помнить, что написана она в 1944–1946 гг., а издана, кстати, ничтожным тиражом, всего 100 экземпляров, в 1947-м, когда после жертвенных, искупительных лет Великой Отечественной вновь наползало на страну «темное время», поднималась вторая волна репрессий, а наука, искусство, культура сокрушались тараном идеологии. Концепция антропокосмизма, даже в окружении цитат из произведений классиков марксизма-ленинизма, шла, что называется, в разрез с «генеральной линией» эпохи. Холодный призывал к сердечному, разумному и ответственному отношению ко всей живой и неживой природе, предостерегал от произвольных, не опирающихся на действительное знание преобразований. Эпоха же «боролась» с природой, да к тому же не согласно, а вопреки знанию и здравому смыслу. Холодный утверждал, что антропокосмизм проповедует «равноценность людей... независимо от их национальности, общественного положения, социального происхождения». А в государстве был взят на вооружение лозунг «классовой борьбы» и под видом «борьбы с космополитизмом» преследовались инородцы. Понятно, что старый, заслуженный ученый немедленно был обвинен в идеализме, буржуазности, фашизме. Приостановили исследования и разработки, начатые под его руководством в области учения о фитогормонах. Холодный был вынужден прекратить преподавательскую деятельность. Последние годы жизни на почти полностью закрытой к тому времени Днепровской биологической станции фактически были ссылкой. Стоит ли говорить, что на весах совести маленькая эта книжечка, написанная в условиях системы, корежащей мысль и душу, поистине «томов премногих тяжелей». Ибо была она актом свободы, тем экзистенциальным «поступком», в претворяющем горниле которого и выплавляется личность.
|
Предисловие Глава I. Природа и человек Глава II. Антропоцентризм и антропокосмизм |
Мыслящий натуралист, в какой бы области естествознания он ни работал, не может не задумываться над вопросом об отношениях между человеком и природой. Этот вопрос, в свою очередь, вводит его в сферу более глубоких проблем философии, теории познания, истории культуры и науки, учения об эволюции, рождает желание проникнуть мыслью в минувшие и грядущие судьбы Вселенной и человечества. Так создается основа научного мировоззрения естествоиспытателя, так строится более или менее полная система взглядов, дающих – относительно и временно – удовлетворительные ответы на вечные вопросы о бытии человека и Вселенной. <...>
Современное естественнонаучное мировоззрение, которому автор присвоил наименование антропокосмического, чтобы противопоставить его отжившему антропоцентрическому, в корне изменило наши представления о месте и роли человека в природе, космосе. Наука нового времени, с одной стороны, развенчала человека, перестав рассматривать его как центральную фигуру всего мироздания, но с другой – она же в огромной степени подняла его значение во Вселенной, наделив его силами и средствами, необходимыми для перестройки окружающей природы, для подчинения ее воле и разуму человеческого коллектива. Этот переворот во взаимоотношениях человека и природы должен, по мнению автора, оказать глубокое влияние на философские, этические и социальные идеи современности. Но пережитки антропоцентризма еще сильны, и нужна упорная и длительная борьба, чтобы окончательно уничтожить их и переделать сознание человека в соответствии с новым, антропокосмическим мировоззрением. Развитию этих идей посвящена значительная часть работы. <...>
Слово «природа» имеет два значения. В более широком смысле это синоним Вселенной, космоса. Природа в таком понимании включает в себя и человека, и все созданное его трудом на Земле. Чаще, однако, человек противопоставляется природе, а значительная часть того, что изменено и переработано хозяйственной и культурной деятельностью человека в его естественном окружении, в понятие «природа» не включается.
При таком более обычном и более узком понимании этого слова понятие «природа» охватывает только те ее части или, выражаясь метафорически, только те черты ее облика, которые совсем не изменены деятельностью человека или же изменены ею незначительно, незаметно.
2
Ставшее для нас привычным противопоставление человека и природы покоится на устарелом, отжившем представлении об особом, надприродном положении человека в мироздании и в корне противоречит духу современного научного мировоззрения. В настоящее время такое противопоставление может быть принято только в условном и ограниченном смысле и имеет своей целью подчеркнуть, что деятельность современного человека направлена в основном на преобразование природы, что человек создает в ближайшем своем окружении своеобразную, отличную от естественной, среду, которая может быть названа антропосферой.
3
Антропосфера, при всем ее своеобразии, представляет собой только органическую часть биосферы – более широкой арены деятельности всех вообще живых существ на нашей планете. Она отличается от других частей биосферы тем, что обязана своим возникновением высокоразвитой производственной и общественной деятельности человека и, следовательно, подчинена действию особых, социально-экономических закономерностей, не распространяющихся на остальную природу.
4
Человек, несмотря на существенные особенности созданной им жизненной среды, продолжает оставаться неотъемлемой частью космоса, полностью подчиненной действующим в нем законам.
Человек находится не над природой, а внутри природы. Он органически связан с природой всем своим сложным существом и действует на нее не извне, а изнутри. В этом – источник и его слабости, и его силы. Источник слабости потому, что бесчисленные и разнообразные связи человека с окружающей природой часто ставят его под удар таких сил, которые им еще не вполне или совсем не изучены и пока не подчиняются его воле. Источник силы, так как факторы, действующие изнутри, эндогенные, способны вызывать более глубокие сдвиги в явлениях природы и легче подчиняют их своему влиянию, чем факторы экзогенные, действующие извне.
Органическая многосторонняя связь человека с природой является основой, на которой зиждется вся его творческая деятельность, направленная на преобразование естественной среды его жизни. С одной стороны, именно эта связь, вынуждая человека к борьбе с враждебными ему силами природы, является для него главным источником побуждений к деятельности, с другой – она же вооружает его силами и средствами, необходимыми для преобразования природы с целью улучшению антропосферы, приспособления ее к растущим потребностям человека и человеческого общества.
5
В природе и особенно в биосфере экзогенные факторы, действуя на какую-либо материальную систему, могут вызвать в ней троякого рода изменения: 1) разрушительные, уничтожающие данную систему, как таковую; 2) поверхностные, быстро исчезающие и 3) более глубокие и длительные, но не оказывающие разрушительного действия. В этом последнем и наиболее важном случае внешние факторы действуют обычно не самостоятельно, а при помощи факторов эндогенных. Так, например, солнечный свет, падающий на зеленое растение, приводит в движение очень сложный механизм внутренних факторов в хлоропластах и протоплазме клеток. Без их участия конечный эффект – новообразование и накопление органических веществ – не был бы достигнут.
Роль света в этом процессе все же весьма значительна, так как он является источником энергии. Но гораздо чаще мы встречаемся в биосфере с такими изменениями третьей группы, в которых роль внешних факторов сводится только к освобождению, приведению в действие внутренних сил или потенций данной системы.
В особенности это относится к явлениям, непосредственно связанным с деятельностью живых существ и протекающим как в самих организмах, так и в окружающей их среде.
В этом случае разнообразные исходящие из внешней среды воздействия являются чаще всего только раздражениями, освобождающими потенциальную энергию организма, переводящими ее в различные формы энергии кинетической, побуждающими организм к деятельности и направляющими эту последнюю в определенное русло, к некоторой сознаваемой или несознаваемой цели.
Таким образом, основной причиной глубоких длительных и прочных изменений в природных телах биосферы являются преимущественно факторы эндогенные.
Деятельность человека в биосфере, рассматриваемой как целое, представляет собой мощный эндогенный фактор не только потому, что человек находится внутри природы, но и потому, что он имеет возможность – с помощью разума – проникать и вмешиваться в работу тончайшего внутреннего механизма различных явлений природы, внося в них желательные ему изменения.
Наука нового времени изобилует примерами раскрытия самых сокровенных тайн природы деятельностью разума, опирающегося на опыт. Таковы в особенности новейшие успехи учения об атомном ядре и первые овладения ядерной энергией. <...>
8
Разум человека, подобно заменяющему его на низших ступенях органической лестницы инстинкту, – продукт длительной эволюции. Обе эти способности, несомненно, продолжают эволюционировать и в настоящее время. Однако, в то время как эволюция инстинкта полностью подчинена закону естественного отбора и, следовательно, основана главным образом на пассивном приспособлении организма к меняющимся условиям среды, разум по самой природе своей активен, и его «приспособляемость» неразрывно связана со стремлением человека воздействовать на окружающую среду, изменять ее в соответствии со своими целями.
Активное вмешательство человека в явления природы – наиболее мощный фактор, стимулирующий и направляющий развитие его интеллекта. <...>
9
Активность разума следует понимать как органическую, неразрывную связь его с целеустремленной деятельностью человека, с трудом, с производственными процессами. Труд был главным фактором эволюции разума в филогенезе человека; труд остается основным условием роста умственных способностей человека и в процессе онтогенетического развития. Разум – дитя труда. Отсюда и его активность. <...>.
Антропоцентрическое мировоззрение в течение тысячелетий эволюционировало, изменялось, но при всех своих изменениях полностью или частично сохраняли свое значение следующие основные его особенности:
1. Убеждение в том, что человек по своему происхождению и по своей природе есть существо особого рода, высшее, отделенное непереходимой границей от всех других живых существ.
2. Основанная на этом убеждении переоценка значения человека в мироздании, доходившая иногда до абсурдного утверждения, что все в мире создано для удовлетворения его потребностей, как царя и властителя природы. В связи с этим Земле, как месту обитания человека, долгое время приписывалось центральное положение во Вселенной.
3. Очеловечивание или одухотворение органической и частично даже неорганической природы, исходившее из убеждения, что человек и его деятельность, а также человеческое общество – это прототипы большинства предметов и явлений внешнего мира.
4. Уверенность в том, что для познания внешнего мира все существенное можно почерпнуть из знакомства с внутренним, духовным миром человека и что, изучая этот последний, можно найти основные законы, управляющие явлениями всей природы.
63а
В развитии антропоцентризма, насколько мы можем судить о нем на основании памятников религиозного, художественного и научного творчества, следует различать несколько эпох или стадий:
1. На первой, самой ранней стадии развития этого мировоззрения человек еще не выделял себя отчетливо из окружающей природы и не противопоставлял себя ей. Антропоцентрическое отношение к природе выражалось главным образом в полном или частичном очеловечивании ее сил, в первую очередь стихийных, как благодетельных для человека, так и грозящих ему различными бедствиями (солнце, огонь, вода, земля, гром, молния, бури и т.д.). Очеловечивание сил и явлений природы порождало соответствующее практическое к ним отношение – по образцу отношений более слабых членов первобытного человеческого общества к более сильным: отсюда различные формы религиозного культа – молитвы, заклинания, жертвоприношения и т.д. Для этой стадии развития антропоцентризма самой характерной чертой является страх перед природой.
2. На второй, более поздней стадии развития антропоцентризма, в связи с первыми проблесками научного мышления и с первыми удачными попытками овладения силами природы, человечество постепенно и понемногу начинает освобождаться от первобытного слепого страха перед природой. В то же время оно начинает выделять себя из природы, научается смотреть на нее «со стороны», как на объект исследования и как на опору своего благосостояния. Первоначальное очеловечивание сил природы уступает место их одухотворению, возникает мир «идей», которым приписывается объективное существование (Платон).
3. На третьей и высшей стадии развития антропоцентризма человек окончательно противопоставляет себя природе, возносит себя на недосягаемую высоту, как венец творения, как богоизбранного царя и властителя Земли со всеми ее силами и богатствами, которым предназначено свыше обслуживать потребности и удовлетворять прихоти слабого телом, но мощного духом человеческого существа. Человек уже не противостоит миру независимых от него идей, он сам становится его творцом, способным познавать Вселенную «из себя», опираясь только на всеобъемлющую силу своего духа. Человек вырастает в богочеловека, и мания величия на долгие века овладевает им, отдавая во власть призрачных, ошибочных представлений о Вселенной и о собственной его природе.
4. На четвертой и последней стадии развития антропоцентрическое мировоззрение постепенно рушится под ударами новой науки и философии. Антропоцентризм уже не владеет безраздельно умами, но еще существует в скрытой, часто неосознанной форме, как исторический пережиток, продолжая оказывать влияние на мировоззрение широких масс и даже отдельных представителей интеллигенции. В эту эпоху иногда наблюдается и возрождение первобытного страха перед природой, характерного для наиболее примитивной формы антропоцентризма. Таковы, например, высказывания некоторых поэтов XIX в. Однако все эти рецидивы отживающего антропоцентрического мировоззрения с течением времени становятся все более редкими: они не выдерживают длительной борьбы с новыми идеями, в корне меняющими все наши представления о Вселенной. <...>
65
Одно из проявлений диалектики развития человеческой мысли заключается в том, что в самом процессе эволюции антропоцентрического мировоззрения возникали и крепли зародыши новых, диаметрально противоположных взглядов, постепенно подтачивавших устои старых представлений о природе, человеке и их взаимоотношениях. <...>
Ввиду того что этому, исторически более молодому мировоззрению до сих пор не присвоено никакого наименования, мы будем в дальнейшем его обозначать термином «антропокосмизм». <...>
67
В чем заключаются основные черты этого нового миропонимания? Человек раз и навсегда перестает быть центром мироздания. Он становится просто одной из его органических составных частей, не пользующейся никакими привилегиями ни в смысле своего положения среди других существ, ни в смысле происхождения.
Из этого основного положения следует ряд выводов большого теоретического и практического значения.
Противопоставление человека природе в значительной мере теряет свой смысл. Растущий отрыв от природы – логическое следствие этого противопоставления – все чаще осознается как нечто ненормальное. Провозглашается необходимость оздоровления человека и его быта путем восстановления его естественной связи с природой.
В отношения человека к природе все в большей мере проникают новые начала – стремление не только подчинить ее силы своей воле, но и как можно глубже проникнуть в тайны структуры и эволюции космоса, материи, безотносительно к возможности использования приобретенных знаний для практических целей. Рождается убеждение, что только на этом пути можно найти ключ к пониманию природы самого человека как органической части космоса, им порожденной и с ним нераздельно связанной.
Начинает сдавать свои основные позиции и эгоцентризм. Человек все больше проникается сознанием необходимости дружеского участия в жизни других людей, стремлением не столько брать, сколько давать и помогать другим. Все формы угнетения человека человеком признаются морально недопустимыми, борьба с ними обостряется. Растет и ширится убеждение в равноценности людей, независимо от расы и других биологических особенностей их, а также от их национальности, общественного положения, социального происхождения и т.п. Возникает весь тот комплекс идей об изменении существующего социального строя, который теперь воодушевляет прогрессивную часть человечества в ее борьбе за лучшее будущее.
Едва ли, однако, нужно еще раз повторять, что внедрение всех этих идей в сознание человечества, а тем более претворение их в действительность далеки от завершения и потребуют еще много времени и жестокой борьбы.
68
<...> Не подлежит, однако, сомнению, что в течение последних трех-четырех столетий во всех областях знания, в искусстве, философии, этике проделана огромная работа, способствовавшая выяснению основных черт нового миропонимания и наметившая директивы для выработки новых форм общественных взаимоотношений, достойных человека, осознавшего свое положение и свою роль в космосе...
А роль эта достаточно велика и ответственна. Ведь именно в человеке живая природа достигла той степени эволюции, на которой в ее жизни и дальнейшем развитии начинают приобретать главенствующее значение разум, свободная воля и нравственные идеалы. Разум дает человеку возможность предвидеть последствия своих поступков, свободная воля – направлять их в сторону намеченных целей.
Возникший в процессе длительного исторического развития живой материи человек – Homo sapiens – благодаря указанным своим особенностям сам становится одним из мощных факторов дальнейшей эволюции природы в обитаемом им участке мироздания, и притом фактором, действующим сознательно. Это налагает на него громадную ответственность, так как делает его прямым участником процессов космического масштаба и значения. <...>
70
Любовь к природе в антропокосмическом понимании не имеет ничего общего с сентиментальным восхищением ее красотами в духе Ж.-Ж. Руссо, а бережное отношение к природе, вытекающее из антропокосмических идей, нельзя отождествлять с догматом буддизма о неприкосновенности всего живого. Изменения естественного состава фауны и флоры, диктуемые хозяйственными и культурными потребностями человека, борьба с паразитами – возбудителями заболеваний, с кровососущими насекомыми и другими животными – переносчиками инфекций, с/х вредителями и т.д.- все это ни в коей мере не противоречит основным положениям ант-ропокосмизма. Оставаясь в рамках этого мировоззрения, мы должны считать допустимым все те мероприятия, которые клонятся к переустройству природы на разумных началах, к торжеству и благополучию человека как главного носителя прогрессивных тенденций космической жизни на нашей планете. <...>
73
В антропокосмическом отношении к природе самое характерное – это постоянное ощущение человеком своей органической, неразрывной и действенной связи с ней, со всем космосом. Эта связь распространяется на все стороны человеческого существа и имеет двусторонний характер в том смысле, чти человек, испытывая разнообразные и сложные воздействия со стороны окружающей природы, и сам в то же время может влиять и влияет на нее различными способами.
Могут указать, что связь свою с природой остро чувствовал уже первобытный человек и что это чувство хорошо знакомо также дикарю. Это правильно, но связь с природой первобытного человека или дикаря по преимуществу односторонняя.
Она выражается в форме зависимости человека от природы, и ей сопутствует, как было уже указано раньше, чувство смутного ужаса перед непонятными и грозными явлениями природы.
Антропоцентризм был в известном смысле реакцией на это сознание своей зависимости от природы, постоянно угнетавшее человека в начале его исторического развития. В свое время он сыграл, следовательно, положительную роль как мировоззрение, в значительной мере освободившее человека, ценой ложного или чрезмерного его возвеличения, от подавляющего страха перед силами природы. Но, возвеличивая человека, антропоцентризм в то же время до известной степени изолировал его от естественного окружения, нарушал или ослаблял здоровое ощущение его органической связи с природой.
Идущий на смену антропоцентризма антропокосмизм возрождает это чувство связи, но не в той форме, какая была ему свойственна вначале, а в новой, более совершенной. Выражаясь в терминах диалектического материализма, мы можем сказать, что антропокосмизм поднимает сознание человеком своей связи с природой на новую, высшую ступень. Здесь, следовательно, перед нами один из примеров закона повторяемости фаз развития в новых, измененных формах или, говоря образно, пример эволюционного движения «по винтовой спирали».
Как было уже сказано, антропоцентризм не мог полностью освободить человека и от примитивного страха перед природой. Это доступно только антропокосмизму с его светлым и радостным восприятием космоса. <...>
103
Антропокосмизм в самом широком понимании этого слова – со всеми его философскими, этическими, социологическими и другими выводами – это определенная линия развития человеческого интеллекта, воли и чувства, ведущая человека наиболее прямым, а стало быть, и кратчайшим путем к достижению высоких целей, которые поставлены на его пути всей предшествующей историей человечества. <...>
Менее доступно нашему прогнозу то, что сулит принести в различных областях знания дальнейшее развитие науки и техники, но зато ни в одной другой сфере человеческой деятельности мы не наблюдаем такого стремительного движения вперед. И это дает нам основание рассчитывать, что именно здесь нас ожидают в ближайшем будущем наиболее крупные успехи. Всем видам искусства также, несомненно, предстоит эпоха расцвета, заполненная творчеством, достойным великих задач, которые поставлены историей перед нашим и последующими поколениями. И как один из результатов дальнейшего успешного развития науки и искусства мы можем мыслить себе постепенное их сближение, на основе которого будет расти и крепнуть то новое, живое и глубокое ощущение всей полноты, многообразия и красоты космической жизни и нашей связи с этой жизнью, которое можно было бы назвать космическим чувством. Оно же станет и здоровым источником того облагораживающего человека «дыхания вечности», которое лучшие из религиозно настроенных умов прошлого тщетно пытались найти в наивных выдумках, завещанных нам предшествующими поколениями.
Термин «космическое чувство» не нов. Мы встречаем его у некоторых философов-идеалистов начала XX в. (Гёффдинга*266 и др.), которые обычно придавали ему мистический смысл. Самое появление этого термина свидетельствует о том, что мысль об органической связи человека с окружающей его Вселенной давно уже назрела: она естественно вытекала из растущих научных знаний о человеке и об отношениях его к природе. <...>
104
Основа для развития космического чувства – любовь к природе, включая в нее и человека. Но природу можно любить по-разному. По-своему ее любит художник, для которого главное ее очарование заключается в разнообразии и красоте форм и красок внешнего мира, в гармонических их сочетаниях, в игре света и теней, в пластике и выразительности движений, отражающих жизнь чувства и мысли. По-своему, по-иному может любить природу и естествоиспытатель, стремящийся разгадать внутренний смысл и тончайший механизм явлений природы, вскрыть их таинственные связи, найти законы, которым эти явления и связи подчинены, и облечь их в изящную форму математической символики.
Космическое чувство должно объединить в себе все эти элементы эстетического и интеллектуального восприятия космоса, но оно будет и несравненно богаче содержанием, чем то чувство, которое испытывает современный художник или ученый даже в минуты наиболее полного и проникновенного сознания красоты, значительности и глубокой закономерности космических явлений. Оно будет настолько же выше того, что мы называем сейчас «любовью к природе», насколько совершеннее станут доступные науке и искусству средства восприятия и отображения природы, насколько шире и глубже будут наши знания о ней, насколько, наконец, изощреннее и тоньше станут в процессе развития интеллектуальные и эстетические способности человека. <...>
115
Уверенность в том, что разум с течением времени станет главной силой не только в человеческом обществе, но и во всей подчиненной воле человека части космоса, покоится на объективных данных, характеризующих общее направление эволюционного процесса.
Акад. В.И. Вернадский (Успехи современной биологии, 1944, т. 18) указывает, что эволюция всего живого царства и отдельных типов животных идет в определенном направлении, которое можно обозначить термином «цефализация», предложенным американским геологом Д. Дана (1813–1895). Сущность этого явления, которое может быть прослежено на огромном палеонтологическом материале, сводится к тому, что в эволюции живой природы непрерывно возрастает значение процессов, связанных с деятельностью центральной нервной системы.
Развивая дальше эту мысль, В.И. Вернадский приходит к выводу о неизбежности постепенной перестройки всей биосферы «в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого», о неизбежности превращения биосферы в ноосферу, в которой главной действующей силой будет разум человека. Мы переживаем только начало эпохи, в течение которой лик Земли должен коренным образом измениться под влиянием этой новой космической силы. В.И. Вернадский считает возможным распространение ноосферы и за пределы нашей планеты – в более отдаленные части космического пространства.
116
Философские идеалисты всех направлений и сторонники религиозного мировоззрения часто говорят о «победе духа над материей» как о конечной цели существования и деятельности человека. В известном смысле превращение биосферы в ноосферу можно было бы рассматривать как достижение именно этой цели, так как оно было бы равносильно торжеству разума, или «духовного начала», над слепыми силами природы.
Но если человечество действительно должно когда-либо прийти к этой цели, то она может быть достигнута только в процессе дальнейшего развития науки и техники, на основе единственно правильного прогрессивного материалистического мировоззрения, путем преобразования окружающей естественной среды и самого человеческого общества в соответствии с требованиями, вытекающими из этого мировоззрения. <...>
118
Если исходить из мысли, что эволюция живого вещества на нашей планете идет в сторону усиления интеллекта, то неизбежно возникает вопрос, как отразится этот процесс на природе самого человека. Не изменится ли с течением времени весь его духовный облик под влиянием преобладающего развития той стороны его существа, которая является органической основой интеллекта? Не вызовет ли этот процесс глубоких изменений в динамике психических явлений, от которых в конечном счете зависит и все поведение человека, как индивидуума и как члена общества?
Последовательный дарвинист должен дать на все эти вопросы утвердительный ответ. Да, духовный облик человека в дальнейшей его эволюции должен радикально измениться; в его психической жизни должны произойти существенные сдвиги, которые, в свою очередь, приведут к глубоким изменениям как в поведении каждого человека, так и в общественных отношениях.
119
Каких же конкретных изменений психофизиологической организации человека мы можем ожидать в результате постепенной эволюционной ее перестройки? Закон соотносительности развития*267, установленный Ч. Дарвином, дает нам основание предполагать, что прогрессирующее усиление интеллекта должно сопровождаться соответствующим ослаблением тех функций центральной нервной системы, которые являются в известном смысле антагонистами разума. Мы имеем в виду в первую очередь некоторые эмоции, унаследованные нами от наших далеких предков и особенностью которых является то, что в моменты наивысшего своего напряжения они угнетают деятельность разума и тем самым как бы заставляют человека опускаться до уровня поведения, свойственного представителям более низких ступеней органической лестницы. Таковы, например, некоторые эмоции, связанные с инстинктом размножения и с чувством собственности.
120
Никто не станет отрицать, что разнообразные эмоции, связанные с половым влечением, играют огромную роль в жизни всех более высокоорганизованных представителей животного царства, в том числе и человека. Как указывал впервые Дарвин, именно эти психофизиологические явления преимущественно обусловливают возникновение и развитие эстетического чувства. В зачаточной форме это последнее, по Дарвину, может быть прослежено довольно далеко в нисходящем ряду животных форм, но исключительной высоты и совершенства оно достигает у человека. Здесь эмоции, связанные с сексуальным влечением, являются, несомненно, мощным источником художественного творчества, особенно в поэзии и музыке. Они же играют положительную роль, как одна из основ возникновения и укрепления первичной ячейки всякого общества – семьи.
Но наряду с этим необходимо иметь в виду, что инстинкт размножения формировался у человека в условиях, резко отличающихся от тех, в которых живет современное человечество.
Первобытный человек, как и его обезьяноподобные предки, жил в тяжелых условиях непрестанной борьбы за существование, в которых инстинкт продолжения рода должен был обладать громадной силой, делающей его способным подавить даже мощный инстинкт самосохранения – в тех многочисленных случаях, когда оба эти инстинкта вступали в коллизию. Это было необходимо для сохранения вида.
Но по мере того как человек поднимался над уровнем первобытного существования и условия его жизни становились все более благоприятными, отпадала и необходимость в той все подавляющей силе инстинкта продолжения рода, которую человек унаследовал от своих предков. Для современного культурного человека эта наследственная избыточная сила полового инстинкта и связанных с ним более примитивных эмоций часто является источником различных дисгармоний и эксцессов. На этой почве совершается немало ошибок и даже преступлений, явно свидетельствующих о том, что нормальная деятельность человеческого разума может быть подавлена или извращена эмоциями низшего порядка.
С дальнейшим ростом интеллекта эти отрицательные явления будут становиться все более редкими – в силу указанного выше психофизиологического и эволюционного антагонизма различных сторон природы человека. А развитие биологии поможет найти такие пути и способы воздействия на человеческий организм, которые, обеспечивая благотворное влияние высших сексуально обусловленных эмоций на художественное творчество и на другие виды умственной деятельности, в то же время сделали бы возможным полное подчинение полового инстинкта воле и разуму человека. <...>
123
Как было уже отмечено раньше, антропоцентризм, в отличие от антропокосмизма, пессимистичен. Глубоким пессимизмом проникнуты и антропоцентрические представления об исторических судьбах человечества. Антропоцентризм отрицает наличие каких-либо существенных прогрессивных изменений в умственных способностях и в нравственности человека в течение его исторического существования. Исходя из этого, антропоцентризм считает неосновательными надежды на коренное усовершенствование интеллекта и улучшение нравственной природы человека в будущем. Отсюда же антропоцентризм черпает и теоретическое обоснование характерного для него консерватизма в вопросах общественной жизни и международных отношений. Формула «так было, так будет» может служить кратким выражением этой убогой «философии». Ее выдвигают, когда хотят доказать бесцельность борьбы за коренную перестройку господствующих социальных отношений в интересах трудящихся или когда ищут оправдания основанным на грубой силе способам решения международных проблем.
Антропокосмизм рушит устои, на которых покоятся эти пессимистические и реакционные воззрения. Он учит нас подходить к истории человечества с масштабами космической жизни. С этой точки зрения несколько сотен тысяч лет, отделяющих современного человека от его звероподобных предков, – период, ничтожный по своей длительности. И если мы посмотрим на него в перспективе тех миллионов тысячелетий, в течение которых будет продолжаться жизнь человека на Земле, то мы поймем, что современное человечество, столь гордое своими успехами во всех областях цивилизации, культуры, науки, техники, в сущности, еще не вышло из «младенческого возраста». Отсюда следует, что «возрастной характер» имеют и все те несовершенства в интеллектуальной и моральной природе человека, а также в его общественной жизни, на которые любят ссылаться антропоцентристы всех оттенков, чтобы обосновать свои пессимистические прогнозы.
В свете антропокосмических идей все эти несовершенства можно рассматривать как своего рода «детские болезни», которые могут и должны быть преодолены силами молодого, растущего и развивающегося организма. Выйдя победителем из этой борьбы, человечество вступит в следующую, более зрелую фазу своего развития, которая принесет ему как новые успехи, так и новые трудности.
124
<...> В борьбе и муках родятся новые формы жизни, ибо таковы законы общественного развития. Но и в самые трудные периоды этого неравномерного и зигзагообразного движения мы не должны падать духом. С каждым шагом вперед человечество приближается к своему «золотому веку», к полному расцвету жизненных сил. Путь тяжел, но впереди огни: «Per aspera ad astra!» («Через препятствия к звездам»).
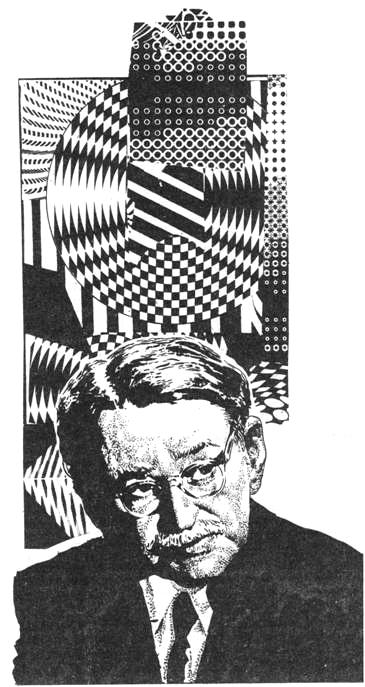 В.Ф. Купревич, крупнейший ученый-биолог, ботаник и растениевод, 17 лет возглавлявший Белорусскую академию наук, родился в Смолявичском районе Минской губернии 8 января 1897 г. Он окончил сельскую школу и поступил туда, где естественно было учиться сыну потомственных крестьян, – в сельскохозяйственное училище, которое окончил рано – в 16 лет. Но любознательного, живого, романтически настроенного юношу влекли и путешествия, и другие небеса, и жажда испытать себя, и он в 1913 г. поступает юнгой на Балтику, Когда же началась первая мировая война, его тут же зачислили в Балтийский военный флот; когда он попал на эсминец «Самсон», он был уже старшиной-командором и с командой этого корабля принимал участие во взятии Зимнего дворца. После демобилизации в 1918 г. вернулся в родное село и стал работать здесь учителем. В эти годы усиленно занимается самообразованием, изучает природу и сам пишет более десятка статей о том, как наиболее эффективно пробудить у учащихся интерес к естествознанию, как учиться познавать окружающий мир растительных и животных организмов. Как объект исследования его особенно привлекают грибы, а также физиология больного растения. Он пишет об этом ряд статей и поступает с этой темой сразу в аспирантуру Института биологии АН БССР, которую, однако, проходит в Ботаническом институте в Ленинграде. В 1934 г. Василий Феофилович защищает кандидатскую диссертацию и возвращается в Минск, где и разворачивается самый плодотворный период его научной, преподавательской и организаторской деятельности. В 1941 г. он защищает докторскую диссертацию, в 1950 г. получает звание профессора, становится директором Ботанического института, с 1953 г. он – член-корреспондент АН СССР, а за год до того избирается академиком Белорусской академии и ее президентом. В советской и мировой науке он известен как автор более ста научных работ, среди них фундаментальных – по эволюции паразитизма у растений, по проблеме вида, по физиологии больного растения, по почвенной энзимологии (новое открытое им направление в исследовании почвы).
В.Ф. Купревич, крупнейший ученый-биолог, ботаник и растениевод, 17 лет возглавлявший Белорусскую академию наук, родился в Смолявичском районе Минской губернии 8 января 1897 г. Он окончил сельскую школу и поступил туда, где естественно было учиться сыну потомственных крестьян, – в сельскохозяйственное училище, которое окончил рано – в 16 лет. Но любознательного, живого, романтически настроенного юношу влекли и путешествия, и другие небеса, и жажда испытать себя, и он в 1913 г. поступает юнгой на Балтику, Когда же началась первая мировая война, его тут же зачислили в Балтийский военный флот; когда он попал на эсминец «Самсон», он был уже старшиной-командором и с командой этого корабля принимал участие во взятии Зимнего дворца. После демобилизации в 1918 г. вернулся в родное село и стал работать здесь учителем. В эти годы усиленно занимается самообразованием, изучает природу и сам пишет более десятка статей о том, как наиболее эффективно пробудить у учащихся интерес к естествознанию, как учиться познавать окружающий мир растительных и животных организмов. Как объект исследования его особенно привлекают грибы, а также физиология больного растения. Он пишет об этом ряд статей и поступает с этой темой сразу в аспирантуру Института биологии АН БССР, которую, однако, проходит в Ботаническом институте в Ленинграде. В 1934 г. Василий Феофилович защищает кандидатскую диссертацию и возвращается в Минск, где и разворачивается самый плодотворный период его научной, преподавательской и организаторской деятельности. В 1941 г. он защищает докторскую диссертацию, в 1950 г. получает звание профессора, становится директором Ботанического института, с 1953 г. он – член-корреспондент АН СССР, а за год до того избирается академиком Белорусской академии и ее президентом. В советской и мировой науке он известен как автор более ста научных работ, среди них фундаментальных – по эволюции паразитизма у растений, по проблеме вида, по физиологии больного растения, по почвенной энзимологии (новое открытое им направление в исследовании почвы).
Незадолго до смерти Купревич стал выступать на страницах центральной периодической печати, в самых популярных изданиях (от «Литературной газеты» до «Огонька») со своими заветными идеями о жизни и смерти. Есть особая закономерность в том, что ученый начинает развивать и высказывать свою «философию» к концу жизни и научной деятельности – как некий ее мировоззренческий итог. Так было и с физиком Н.А. Умовым, и с биогеохимиком В.И. Вернадским (имея в виду его ноосферу). Василий Феофилович подошел к проблеме жизни и ее индивидуального конца как биолог, дерзающий революционно пересматривать сложившиеся традиционные взгляды, смело смотреть в будущее науки. Он стоит на той точке зрения, которую настойчиво проводил Федоров еще в прошлом веке: смерть не изначальна в природе, она явилась приспособительным средством, выработанным в процессе эволюции. Но в человеке этот эффективнейший механизм усовершенствования рода – через смену поколений – не просто исчерпывает себя, через него уже не достигается невольного прогресса, ибо вступает активная, преобразующая мир и себя сила – разум, по самой своей сути требующий бесконечного личностного совершенствования. Ибо смерть более всего неприемлема именно с точки зрения личности, наделенной чувством и сознанием. Купревич понимает, что осознание неизбывности смерти, ощущение бессилия перед «хаоса бездной», в которой бесследно исчезают живые, чувствующие, мыслящие существа, рождает внутренний трагизм сознания и существования человека, который и должен быть преодолен.
Ценность выступления белорусского ученого – в научной постановке проблемы, в подчеркивании того, что нет теоретических запретов к долгожительству и бессмертию. «Придумав смерть, – считает он, – природа должна подсказать нам и пути для борьбы с нею». Купревич выдвинул важнейшее положение, имеющее глубокое общефилософское значение для понимания сущности жизни. Не время, отмеренное для индивидуального существования каждому виду живых существ, – сущность жизни. Это исторически сложившаяся форма жизни целого, вида, рода через смену индивидуальных особей. Но сам основной механизм жизни – обмен со средой и беспрерывное обновление организма – не указывает на обязательный конец этого процесса. Более того, на самом первичном, элементарном уровне жизни существует статус практического бессмертия («периодически омолаживающиеся одноклеточные»). На высоком уровне организации этот статус утрачен, но нет принципиальных запретов на его сознательное обретение.
Ученый рассматривает различные гипотезы и теории старения и смерти, которые растут в количестве: наука исследует их и ищет новые пути. Купревич считает, что радикально бороться со старением и физическим концом надо не просто медицинскими средствами, которые способны лишь на несколько лет или в лучшем случае на десяток лет продлить существование человека, а биологическими, направленно воз-действующими на генетический код, на наследственность, с тем чтобы для начала значительно раздвинуть саму видовую продолжительность жизни людей. Речь идет об активном искусственном вмешательстве в физиологические процессы старения с целью их остановки и омоложения организма.>
Как во всяком деле, а особенно новом и смелом, тут нужны энтузиасты, и к ним взывал Купревич в статье с характерным названием «Приглашение к бессмертию» (см.: Техника – молодежи. 1965. № 1), Важнейшей задачей при этом является преодоление своеобразного психологического барьера (на который указывал в свое время другой философ бессмертия – Н.Ф. Федоров), мешающего большинству живущих даже внутренне, в желании и мечте, покуситься на смерть. Как Медуза Горгона, смерть пока приводит в каменное оцепенение всех, и «ученых», и «неученых», говоря словами того же Федорова. Свое видение высшей цели человечества Купревич выразил в следующих словах из статьи «Путь к вечной жизни» (см.: Огонек. 1967. № 35): «Смертный человек бросает вызов времени и пространству. Он выходит один против бесконечной Вселенной, чтобы обрести тайну вечной жизни. Обрести – и подарить потомкам».
В XX в. homo sapiens вступил в пору своей космической зрелости, и вот некоторые его представители начинают роптать на то, что ныне человеку тесны временные границы жизни, «установленные» для его вида.
В этом нет ничего удивительного: ибо с тех пор, как человек стал изучать себя и окружающий мир, мысль его постоянно устремлена на совершенствование этого мира и собственной природы.
То, о чем я буду говорить дальше, может оказаться фантазией, однако многие сегодняшние реальности еще совсем недавно тоже казались фантазией.
Но сначала несколько слов о проблеме, которая представляется более реальной, пути решения которой прокладываются уже сегодня. Проблема долголетия. Ее обсуждение в «Литературной газете» (1968, № 35)*269, вероятно, действительно заинтересовало многих. Прибавить, скажем, сотню лет жизни человеку – пока еще немногие разделяют уверенность в том, что это возможно.
Так может ли человек жить дольше? Я утверждаю: да, может. Должен! А может ли он жить вечно? Вопрос кажется нелепым. Но так ли уж он нелеп?
«Человек не остров, а полуостров. Когда тонет мыс, меньше становится Европа. Смерть каждого из нас делает человечество ниже, поэтому, – продолжает поэт, – не спрашивайте, по ком звонит колокол, – он звонит по вас...»*270
Ушел из жизни А. Эйнштейн, не завершив единую теорию поля. Умер старик крестьянин, не успев разгадать тайну плодородия земли. Можно ли смириться с тем, что смерть их была «своевременной», а проблемы эти пусть решит эстафета поколений? Меня, старого ученого, угнетает тот покорный фатализм, с которым многие относятся к неизбежности смерти.
Смерть противна натуре человека. Мечту свою о вечной жизни люди воплотили в мифы о бессмертных богах. Вероятно, человек интуитивно понимал, что века, на протяжении которых шла эволюция, потрачены зря, если жить ему всего 50-70 лет. Церковь обещала ему бессмертие там, на небе. Затем философы убеждали его, что жить – это значит все время умирать и мечта об очень долгой жизни – метафизика. К сожалению, к этому хору присоединилось большинство медиков и биологов. Как же здесь не укрепиться фатализму!
Откуда следует, что каждое существо обречено умереть? Обычно отвечают: из наблюдений, опыта. Но опыт ежедневно убеждает нас, что Солнце обращается вокруг Земли... Маркс оставил нам великий принцип: всё подвергай сомнению. В применении к науке это означает – проверять время от времени те общепринятые, «очевидные» истины, на которых она покоится.
Еще известный генетик А. Вейсман*271 отмечал, что жизни каждого человека и растения присуща определенная продолжительность не оттого, что вечное существование противоречит самой природе жизни. Организмы утратили способность обновлять «изнашивающиеся» клетки не потому, что те в силу своей природы не могут размножаться безгранично. Просто способность эта была утрачена в результате естественного отбора, и жизнь гипотетически бессмертной особи сократилась как раз на тот срок, в течение которого она уже бесполезна для вида.
Когда я еще был студентом, меня, будущего биолога, учили, что все живое стареет и как бы содержит в себе семена своей неизбежной смерти. Однако профессиональное знакомство с миром животных и растений заставляет усомниться в этом.
В самом деле, в основе жизненных форм лежит протопласт – кусочек вещества, сложного, постоянно обновляющегося, способного к неограниченным изменениям своих свойств в процессе обмена материей и энергией с внешней средой. Живое вещество отличается от любых иных высокосложных материальных структур способностью к самообновлению или самоуподоблению. Способность протопласта к усвоению строго определенных элементов окружающей среды в процессе уподобления, т.е. построения живого вещества определенного типа или вида, безгранична.
Живое вещество исключительно стойко и долговечно. Известны ископаемые представители рода тополей из мелового периода, практически неотличимые от современных видов. Это значит – на протяжении 70-80 млн. лет тополь из поколения в поколение передает мельчайшие признаки своих предков. С другой стороны, известны особи древовидных растений, возраст которых достигает 10-12 тыс. лет. Речь идет о сроке жизни, в течение которого рушились горы, меняли свои русла или исчезали реки, возникали и гибли цивилизации, менялся неоднократно климат больших районов, менялись очертания континентов. Между тем особь продолжала жить, распространяя вокруг свое потомство, наращивая собственную массу.
Нет в мире материальной структуры, которая могла бы соревноваться своими стойкостью и постоянством с протопластом – носителем жизни.
Не исключено также, что в наше время долгожители существуют и в мире животных. В печати не раз сообщалось о реликтовых животных, якобы обитающих в небольших озерах. Я не берусь судить о достоверности этих публикаций, но то, что существо сохранилось, быть может, в течение тысячелетий (сомнительно, чтобы они там размножались), вполне вероятное дело. В природе на это запрета нет.
Смерть – явление историческое, она существовала не всегда, а появилась на определенном этапе развития жизни и сразу же стала важнейшим двигателем эволюции: смена поколений сделала возможным появление (и сохранение в результате естественного отбора) как раз тех организмов, которые лучше были приспособлены к окружающей среде. Mors creator vitae est – творцом жизни является смерть, не будь ее, наши звериные предки так никогда бы и не «вышли в люди». Однако, творя новые виды, смерть установила им «естественные» сроки жизни.
Человек – существо биологическое и социальное. Он прямой потомок высших животных, для которых срок жизни – это примерно столько времени, сколько нужно, чтобы оставить после себя жизнеспособное потомство. Звериные предки «завещали» нам только несколько десятилетий жизни. В результате длительной эволюции физической природы предков современного человека возникла видовая граница – средний срок его жизни.
Однако с возникновением общества человек вышел из-под власти естественного отбора. Организм его сложился в далеком прошлом и, по-видимому, на долгие времена. А смерть? Она стала в данном- случае историческим анахронизмом. Как фактор, способствующий улучшению природы человека, она не нужна. С точки зрения общества, она вредна. Исходя из задач, стоящих перед человечеством, просто нелепа. Кто же захочет закрепить эту нелепость на вечные времена?
Многие, вероятно, полагают, что эта видовая граница (80-100 лет) незыблема, абсолютна, как говорится, от бога. Мы же утверждаем, что она возникла исторически, а значит, может быть отодвинута в принципе на любое число лет.
Мы многого не знаем, нам неизвестен даже тот предельный возраст, до которого когда-либо доживал человек. Одни геронтологи полагают, что предел этот – 120 лет, другие демонстрируют нам старца, перешагнувшего за 150. Были ли люди, прожившие дольше, например 200-300 лет? На этот вопрос трудно ответить – достоверных сведений у нас нет. И какими бы фантастическими ни казались различные сообщения о долгожителях, я склонен думать, что, поскольку в основе фантазий слишком часто лежит истина, вероятно, вместо теоретических споров полезнее было бы, найдя останки долгожителей, достоверно определить действительный срок их жизни.
Но в конце-то концов дело не в том – сумеем ли мы найти подтверждения мифов о долгожителях. Важно другое. Для того чтобы получить «инструмент» продления человеческой жизни, нужно познать причины старения организма. Для того чтобы установить предел возможной ее продолжительности, нужно узнать первопричину смерти. Тот механизм ее, который, повторяю, был порожден в процессе эволюции.
Неизбежность старения и смерти живого существа не может быть теоретически обоснована. И то и другое (как и сама жизнь) – явления не количественные, а качественные, имеющие свою особую, не временну́ю размерность.
Что же отмеряет время жизни высших животных? Еще И.П. Павлов ставил собак в нервирующие условия, ломая их психический стереотип. Такие животные умирали раньше. Вероятно, процессы старения и смерти связаны как-то с нейроном – нервной клеткой. Создается впечатление, что важнейший признак старения проявляется в прогрессирующем снижении степени упорядоченности жизненно важных процессов и падении их интенсивности. «Афферентный» синтез, т.е. моментальный синтез всех поступивших раздражений, определяющий ответное действие организма, замедляется, запаздывает. Стареет, изнашивается нервная система. Думаю, что в недалеком будущем наука о психической деятельности человека будет воссоздана на новой основе, тогда, вероятно, появятся новые методы и средства психотерапии, способные защищать от износа и обновлять нервную систему.
Итак, вопреки предостережениям скептиков, идущий все же отправится на поиски «эликсира бессмертия». Оговоримся, что под бессмертием мы вовсе не понимаем вечную во времени жизнь (все бесконечности условны, даже видимая Вселенная имеет возраст).
Обратимся за «эликсиром бессмертия» к той самой природе, которая нас породила. Нам известны практически вечные особи из мира растений: периодически омолаживающиеся одноклеточные. У человека через определенное время старые клетки также почти полностью заменяются новыми. Почему «почти»? А потому, что нервная система человека высоко дифференцирована и клетки ее не меняются от рождения до смерти. Так, может быть, старение и смерть человека – расплата за его высокую нервную организацию? Если бы это было так, то мы бы жили не дольше кошки.
Известно огромное число теорий старения. В частности, как на одну из главных причин старения указывается на повреждение структуры ДНК и РНК, регулирующих воспроизводство важнейших элементов клетки. Генетики полагают, что в этих структурах записан план построения будущих белковых молекул, а какие-то «шумы» попадают в каналы, по которым передается информация, и вот возникает дефект – синтезируется не совсем та молекула, и новая клетка, пришедшая на смену отмершей, оказывается уже другой.
Однако природа устраняет такие дефекты воспроизводства. При слиянии двух дефектных клеток – отцовской и материнской – обычно появляется зародыш нормального организма. Некоторые генетики считают, что при этом дефекты ДНК родителей могут перекрываться друг другом: повреждения, как правило, приходятся на разные места хромосом и поэтому не проявляются в потомстве. Возможно, что подобного рода пути удастся отыскать, чтобы устранять дефекты, возникающие в элементах клеток в процессе их самообновления.
Геронтологам следует прийти к общему мнению, что же такое в конце концов старение – старость человека. Если это болезнь, то ее можно лечить. Если она запрограммирована в гене, то программу эту нужно изменить.
Проблемы старения и бессмертия ставятся в повестку дня. Вряд ли работу над ними нужно начинать со скепсиса и требований уже сегодня начертать все пути, ведущие к «эликсиру жизни». Вряд ли стоит начинать ее с атак на экспериментальную биологию.
Я не сомневаюсь, что на пути изучения процессов старения будут открыты новые факты, принципиально новые явления. Только едва ли это сделают люди, не способные преодолеть элементарных «истин» школьной науки.
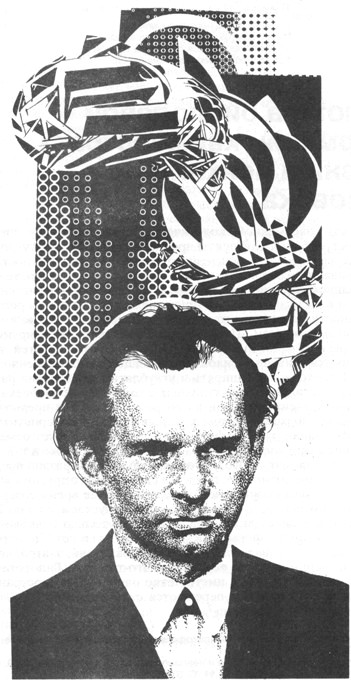 А.К. Манеев, философ-логик, специалист по философским проблемам естествознания, автор оригинальной концепции субстанции и биопсиполя, родился 15 мая 1921 г. в крестьянской семье в деревне Роги Гомельской области Белоруссии. Окончив среднюю школу, а затем медицинский техникум, военным фельдшером он проходит службу в армии, где его и застает Отечественная война. Ленинградский фронт, серьезное ранение в ногу, инвалидность – он возвращается на родину. После войны Алексей Климентьевич поступает в Минский государственный университет на отделение логики, психологии и русского языка, параллельно занимается на физико-математическом факультете и в медицинском институте. Широта его интересов, стремление к основательности знаний, своеобразный, творческий поворот ума обнаруживается с годов учебы. После окончания аспирантуры Манеев защищает диссертацию по логике и с этого времени работает на одном месте – в Институте философии и права АН БССР. Он автор около ста научных публикаций, в том числе шести монографий.
А.К. Манеев, философ-логик, специалист по философским проблемам естествознания, автор оригинальной концепции субстанции и биопсиполя, родился 15 мая 1921 г. в крестьянской семье в деревне Роги Гомельской области Белоруссии. Окончив среднюю школу, а затем медицинский техникум, военным фельдшером он проходит службу в армии, где его и застает Отечественная война. Ленинградский фронт, серьезное ранение в ногу, инвалидность – он возвращается на родину. После войны Алексей Климентьевич поступает в Минский государственный университет на отделение логики, психологии и русского языка, параллельно занимается на физико-математическом факультете и в медицинском институте. Широта его интересов, стремление к основательности знаний, своеобразный, творческий поворот ума обнаруживается с годов учебы. После окончания аспирантуры Манеев защищает диссертацию по логике и с этого времени работает на одном месте – в Институте философии и права АН БССР. Он автор около ста научных публикаций, в том числе шести монографий.
Круг предметов исследования в них широк: это и работы по логике мышления, по типам логических противоречий, и смелые интерпретации философских сторон теории относительности и теории множеств, и нетривиальные исследования категорий пространства, времени и движения. Наибольший интерес представляет манеевская теория субстанции, которую он развивает в нескольких своих работах, и прежде всего в книгах «Философский анализ антиномий науки» (Минск, 1974) и «Движение, противоречие, развитие» (Минск, 1980). Под субстанцией он понимает наличную, существующую безначально целостную реальность невещественного полевого типа, внутренне непрерывную, бесконечно протяженную, самоактивную, ничем не ограниченную. Субстанция обладает атрибутом отражения (Логос), как глубинной основой и источником жизни и психики, и производит все конечные образования, на любых уровнях опыта. (Религиозные мыслители назвали бы ее Богом.) Эта континуально-полевая субстанция является конечной причиной всего сущего во Вселенной. Созидательная самоактивность субстанции выражается в производстве ею всевозможных миров, макро- и микросистем. Исходя из ряда физических законов и эффектов, Манеев анализирует возможности такого «творения» на двух уровнях. Первый, субмикромасштабный: его производные практически лишены свойств жизни и психики из-за актуально бесконечной малости в них атрибута отражения; из них образуется вакуумный массив во Вселенной, а также различные микрообъекты (атомы, молекулы), на основе которых возникают всевозможные вещественные системы. Макромасштабные же производные субстанции – это, по Манееву, континуальные биопсиполя. Они неуничтожимы по возникновении и оказываются потенциально вечными, бессмертными реалиями. В составе живых вещественных систем это их «души», которые сохраняются в качестве субстратов жизни и психики и после их излучения из организма вследствие его биологической смерти. В этом и видит ученый реальное условие для достижения индивидуального бессмертия. А само это бессмертие требует уже радикального преобразования телесной подсистемы человека в адекватную его биопси-полю преображенную, «невещественную» форму. Эти свои самые заветные идеи Алексей Климентьевич развивает глубоко и тонко как философ-теоретик. Он выразил свою веру несколько наивно, но искренне в стихах:
|
Что б гордый дух наук ни говорил, Однако же сказать необходимо: Не верится, что разум от горилл, Не верится, что смерть непобедима!.. И жизнь и смерть полны загадок, тайны Для нас... А для ушедших нет проблем! Связь вечности с полями неслучайна, И смерть для них – простейшая из лемм. Биополя в бессмертии желанном, Паря над прахом, что в земле сырой, Светло сияют крупнозвездным планом, Где вечной музыки высокий строй! |
Сложность современной экологической ситуации в мире очевидна. Она обостряет многие аспекты проблемы человека. Под угрозу глобальных кризисов (термоядерного и экологического) поставлено существование всего человечества, жизни на нашей планете. В создании данной ситуации решающую роль сыграл человеческий фактор; но и в выходе из нее ему принадлежит не последняя роль, т.е. деятельности человека, его сознанию, интеллекту как важнейшим социальным ресурсам. Поэтому исследователи ориентируются на выявление всех человеческих способностей и возможностей, так как они являются движущей силой и высшей целью общественного прогресса. Необходимо расширять и углублять исследования развития психологических, интеллектуальных возможностей человека.
Задачи изучения психики на современном этапе предполагают поиск новых подходов, корни которых уходят в кибернетику, теорию информации, голографию и т.д. Здесь же следует отметить и допущение форм жизни и разума на небелковой основе и т.д. В наш век, писал академик А. Колмогоров, отнюдь «не праздно предположение, что нам, возможно, придется столкнуться с другими живыми существами, высокоорганизованными и в то же время совершенно на нас не похожими»74. Более того, «мы допускаем, что на Земле, возможно, и в самих людях существуют не только белково-нуклеиновые, но и другие формы жизни. Почему бы и нет? До поры ученые не ведали о существовании вирусов, бактерий, завтра, возможно, мы экспериментально обнаружим что-то еще... Гипотетические формы жизни могут и не иметь четко очерченных пространственных границ. Их сигналы передаются с помощью более сложных полей, чем известные ныне»75.
Идеи подобного рода фактически находятся в русле исследований и разработок по проблемам искусственного интеллекта, позволяющих поставить и обсудить вопрос о наличии в составе белковых живых организмов и такой специфической полевой компоненты, которая, возможно, существенно детерминирует комплекс свойств жизни и психики. Мы называем его биопсифеноменом, субстратом которого считаем биопсиполевую формацию. В генетическом аспекте, по нашему мнению, она выступает как состояние определенного возмущения актуально бесконечной в пространстве и во времени целостной субстанциальной реальности континуально-полевого типа76, т.е. существующей без возникновения. На такой основе осуществимы взаимодействия, распространяющиеся мгновенно, а их сила не зависит от расстояния. Об этом свидетельствуют эксперименты Дж. Белла, совершившего выдающееся научное открытие77. Биопсиполе, на наш взгляд, возникает в недрах этой реальности как некоторое целостное первичное возмущение, а не какое-то дискретно-усложненное состояние. Поэтому, как и субстанция, биопсиполе обладает специфической структурой, своеобразие которой состоит в ее континуальности (в отличие от квазиконтинуальности, т.е. контактной непрерывности, прочих, именно квантованных физических полей).
Одним из наиболее существенных свойств биопсиполя, имеющих фундаментальное значение в системе детерминантов творческого потенциала субъекта, является атрибут отражения. Его специфика коренится в упомянутой континуальности структуры биопсиполя как целого. А самодвижение этой реалии в единстве с ее полевой протяженностью обусловливает (через связь с телесной подсистемой организма) как внутреннюю самоактивность его, так и активность во внешней среде. В первом плане система взаимосвязей тела и биопсиполсвой формации лимитирует проявление ее психических функций – сферы психического, представленного единством уровней бессознательного, подсознания, сознания и самосознания как необходимых элементов в системе детерминации творческого потенциала человека. Такова суть гипотезы биополевой формации как компонента организма.
Остановимся детальнее на анализе данных проблем, опираясь на эвристические возможности предлагаемой гипотезы. С позиций структурно-уровневого подхода к явлениям действительности можно на всех ее структурных срезах различать субстраты свойств и носителей последних. Под субстратом будем понимать непосредственную, неотъемлемую основу свойства, а под его «носителем» – -опосредованную, в принципе отделимую основу. Например, окрашенная ткань – носитель цвета, а химический краситель – субстрат цвета, неотделимый от последнего (или электрон – субстрат спина, а атом – носитель).
Аналогичный подход к структуре живых белковых организмов позволяет на макроуровне выделить в них телесную подсистему в качестве носителя жизни и психики, а субстратом их счесть предполагаемую невещественную материальную подсистему, т.е. некоторую полевую формацию, существующую объективно, как и тело человека, и именуемую биопсиполем или специфически материальным полем живых систем. Ее не следует отождествлять с обычными физическими полями – гравитационным, электрическим, магнитным и т.д., ибо они квантованы и потому не могут обладать выраженными свойствами жизни и психики, присущими биополям. Поэтому никакой физический эксперимент, регистрирующий физические поля, не обнаруживает сознания, мышления, воли и других свойств психики. Однако человек, кем бы он ни был, знает, что он жив, обладает сознанием, мышлением, волей, способностью к ощущениям, восприятиям и т.д. Следовательно, можно допустить, что у этих свойств есть собственный субстрат – формация полевого типа. В нашей стране пионерами в исследовании ее были биофизик А.Г. Гурвич, который и использовал термин «биополе» для обозначения этой непрерывной реальности, и Н.К. Кольцов, называвший поле, окружающее зародыш, «силовым». У идеалистически настроенных ученых оно трактуется (начиная с античных времен) как нематериальная «энтелехия».
Однако и последний термин, на наш взгляд, обозначал некоторую наличную реальность, но невещественного характера. Ведь древние мыслители под материей понимали только вещественные образования, а поэтому неизвестные реалии качественно иного типа они автоматически относили к нематериальным сущностям. Фактически на такой основе в течение тысячелетий велась и до сих пор продолжается острая идеологическая борьба между материалистическим и идеалистическим истолкованием сущности жизни и психики.
«Я непосредственно испытываю, – пишет Дж. Экклз, – что моя мысль может вести к действию» и что душа как особая бестелесная сущность в состоянии приводить в движение такое материальное устройство, как тело. Мозг же есть детектор влияний, которые «дух оказывает на тело» посредством специфической микросистемы78, т.е. дух вызывает изменения в системе материи и энергии79. Отстаивая «нематериальность» души, Экклз продолжает: «Я существую как воплощение сознательного «я» в моем теле, и я не могу поверить, что чудесный, божественный дар сознания не имеет будущего, что он не будет воплощен после смерти в другом существовании»80.
Советские ученые А.Р. Лурия и Г.С. Гургенидзе, рассматривая концепцию Дж. Экклза, подчеркивают, что она свидетельствует «о методологических трудностях, испытываемых нейрофизиологией, которая сталкивается лицеям к лицу с такими реальными проблемами, как соотношение физиологического и психологического, материального и идеального»81. Но это происходит потому, что указанные трудности должным образом еще не преодолены и в философии как общеметодологическом базисе частных наук, в том числе нейрофизиологии и психологии82.
В психологии и в философии общепризнано, что для психического образа характерны «отсутствие в нем каких-либо вещественных или энергетических компонентов мозга и отображаемого объекта, невозможность обнаружить идеальное... с помощью органов чувств или каких-то приборов»83, т.е. психический образ как некоторая реальность не обладает ни одним из свойств, характерных для материальных объектов, способных воздействовать на органы чувств биосистемы. Но если это верно, то почему психическое все-таки влияет, и притом существенно, «на физиологические процессы мозга, а через них, при необходимости, на соматические процессы организма человека»84?
В этой связи П.К. Анохин писал: «Я объясняю студентам, что нервное возбуждение формируется и регулируется вот так, оно в такой форме в нерве, оно является таким-то в клетке. Шаг за шагом, с точностью до одного иона, и я говорю им об интеграции, о сложных системах возбуждения, о построении поведения, формировании цели к действию и т.д., а потом обрываю и говорю: сознание – идеальный фактор. Сам я разделяю это положение, но я должен как-то показать, как же причинно идеальное сознание рождается на основе объясненных мною материальных причинно-следственных отношений. Нам это сделать очень трудно без изменения принципов объяснения» (курсив наш. – А. М.)85.
Необходимы более глубокие исследования этих проблем, а также ленинской методологически важной идеи об отражении как атрибуте, лежащем в фундаменте материи и по существу родственном ощущению. Новые сдвиги в данной области знания возможны на основе интенсификации разработки концепций биологических полей как в частнонаучном плане, так и в философско-методологическом аспекте.
В 1944 г. советский ученый В.С. Грищенко выступил в Париже среди ученых с лекцией на тему «Четвертое состояние вещества (ни твердое, ни жидкое, ни газообразное). Новейшее открытие». Вот что сообщает об этом выступлении писатель из Свердловска Ю.Е. Яровой: «Истина, очевидная каждому, сказал докладчик. Если последовательно уменьшать число наших чувств восприятия – ликвидировать зрение, затем осязание, обоняние, вкус, слух... Что тогда останется в живом существе? Эмоции, не правда ли? Но если эмоции существуют в нас, это значит, что они существуют вообще в качестве материального компонента нашего существа... Логично предположить, что эти процессы существуют и у животных. Ну, скажем, страх или радость у собак. Более того, есть наблюдения, говорящие о том, что такие процессы «душевного порядка» происходят и в растительном мире. Как известно, все попытки определить материальную суть этих процессов, их физическую природу не привели ни к чему. Возникает вопрос: почему? Ответ на этот вопрос, мне кажется, может быть единственный: не там искали.
Материальную суть эмоций до сих пор искали в трех привычных нам состояниях: твердом, жидком и газообразном. И не находили. Ибо. как я смею утверждать, все процессы «душевного порядка», равно как и целый ряд других, не объяснимых современной наукой явлений, – проявление четвертого, неизвестного пока состояния материи... Таким образом, базируясь на строго материалистических рассуждениях, независимо от религии мы приходим к представлению о существовании человеческой души...»86.
Разумеется, дело не в названиях: «душа», «четвертое состояние материи», «бионлазма», «более тонкое материальное образование», «биополе» и т.д.; суть проблемы – в специфике сущности и природы той формации, которая представляется связанной со сложным комплексом биопсихических процессов и явлений в живых организмах.
Профессор Н.И. Кобозев писал, что в нашем организме имеются еще не исследованные системы, не подверженные энтропийным явлениям и потому надежно хранящие информацию. Например, память человека, прочно хранящаяся в течение десятилетий, не могла бы оказаться столь устойчивой, будь она «записанной» на клетках или молекулах либо даже на атомах, поскольку при температуре человеческого тела тепловые флуктуации атомов и молекул, а особенно процессы метаболизма сравнительно быстро уничтожили бы и удалили из организма так записанную в нем информацию. Возможно, ее «запись» осуществлена на некотором суперустойчивом субстрате полевого типа, непосредственно не вступающем в обмен веществ. (Пенфилд*273 здесь усматривал некоторую аналогию с электрической звукозаписью на магнитной ленте.) Поэтому биопсиполе, обладая всей информацией организма, в силу собственной динамичности в состоянии обеспечить протекание и таких явлений, которые заслуживают названия «высших безэнтропийных форм мышления и психики как системных процессов»87.
Полагаем, что макромасштабно биополе представлено внутренним компонентом – континуальным биопсиполем как материальным субстратом психики, заключенным в рамках тела организма, а также внешним компонентом – квантованным биоэлектрическим полем и вакуумом, как бы продолжающими биопсиполе за его пределами в бесконечность. Свойство же суперпозиции полей обусловливает возможность их сосуществования и хранения в них приобретаемой ими информации, для размещения которой не возникает затруднений при наличии любого количества биополей, связанных соответственно с многообразием биосистем.
Биопсиполе (как область первичного возмущения в недрах вечной субстанции полевого типа на основе избытка88 ее энергии самодвижения) выступает разновидностью непрерывно-полевых формаций. Поэтому оно отлично от квантованных электромагнитных полей как возмущенных состояний вакуума. Мы считаем, что биопсиполе обладает невещественной протяженностью, относительным самодвижением и свойством отражения, выступающим основой биопсифеномена всей живой системы. Но структура дискретной вещественной подсистемы организма, как бы «вмораживающая» в себя биопсиполе, «конкретизирует» его и оформляет в нем определенный тип биопсифеномена, вторично структурируя эту формацию своим «вторжением».
По-видимому, в недрах материнского организма (или в соответствующих условиях вне его) возникновение биопсиполя будущей живой системы провоцируется информационно-генетическими процессами, развертывающимися либо в результате слияния гамет в зиготу, либо при явлениях партеногенеза. Эти процессы, будучи связаны с соответствующей генетической информацией, и вызывают в «родственной» им среде, т.е. в недрах субстанции, «отклик», адекватное им «возмущение». Последнее предстает как соответственно структурированное биопсиполе зародившегося организма. Оно соединяется с «затравочным» микробиопсиполем исходных клеток новообразования и в дальнейшем существенно определяет процессы его онтогенеза. Мы считаем, что в образующихся новых клетках зародыша аналогичным образом возникают микробиополя под эгидой прежде возникшего макробиополя, с которым они вступают в связь (а также между собой). Эти поля в единстве создают некоторую полевую диалектическую противоположность тела биосистемы, так что ее организованные вещественные подсистемы (ДНК, клетки, ткани, органы и т.д.) выступают элементами многоуровневой кодовой системы, выражающей информацию организма, фактически заключенную в виде голограммы в его полевой подсистеме. В то время как телесная подсистема, кроме функции выражения полевой информации, относительно ограничивая степени свободы биопсиполя, лимитирует и специфицирует проявление его возможностей, вплоть до детерминации психопатологических состояний при соответствующих соматических дисгармониях, искажающих нормальное проявление функции биопсиполя.
Возможно, что точки акупунктуры в теле являются своеобразными «окнами», через которые в соответствующей ситуации усиливается связь биопсиполя с внешним биоэлектрическим полем. Благодаря такому непосредственному контакту этих полей биопсиполе оказывает организующее влияние на биоэлектрическое поле, а потому в принципе может определенным образом изменять его параметры. Этот процесс подтверждается несложными опытами. Пластмассовый сосуд, используемый в качестве своеобразного резонатора для биоэлектрического поля, заряжается при контакте с руками экспериментирующего. В устройстве на обыкновенной нити подвешивается в виде равноплечевого рычага легкая стрелка из любого материала. При приближении какого-либо стержня стрелка отклоняется либо притягивается к нему, находясь на расстоянии 2- 3 см от него. Но нередко удается произвольно изменить каждый из этих процессов на противоположный, для чего необходимо сконцентрировать сознание, желание на ожидаемом превращении. Однако сознание не некий блок или материально-субстратная «управляющая инстанция», а атрибут-отражение, свойственное нашему «я», т.е. биопсиполевой формации, пронизывающей тело человека. Именно поэтому сознание столь тесно связано с организмом. В биопсиполевом атрибуте отражения организма относительно выделены области сознания, подсознания и бессознательного посредством зон контакта биопсиполя соответственно с корой полушарий головного мозга, подкоркой и остальной частью телесной подсистемы организма.
С данной точки зрения на основе атрибута отражения биопсиполя и осуществляются рефлексия, оценочное отражение, вообще процесс познавательного мышления, в том числе и собственного состояния организма в его единстве с биополем. Такое отражение нашей «самости» выступает как самосознание, восприятие субъектом собственного бытия, т.е. как фиксирование существования своего «я» любым индивидом. Целостное свойство отражения биопсиполя и можно трактовать в качестве субъективности в психологическом смысле, выступающей объектом интереса психологии как науки, «предметным» статусом психического. Как подчеркивает А.В. Брушлинский, «психика ошибочно понимается как нечто абсолютно «призрачное», не имеющее своей специфической природы, не обладающее вообще никаким онтологическим статусом»99.
Мы полагаем, что биопсиполе, обладая атрибутом отражения, а также возникающим на его основе информационным содержанием самосознания, подсознания и бессознательного, именно благодаря своей суперустойчивости на базе континуальной (бесточечной, бесконтактной) непрерывности, инвариантности и чрезвычайной динамичности обеспечивает идентичность нашего активного «я» не только при каждом пробуждении после сна, но и в случаях возвращения сознания по выходе организма из обморочных состояний, наркоза, а также и по выведении человека из состояния клинической смерти.
Пронизывающее весь организм биополе, на наш взгляд, является существенным фактором выработки, преобразования и надежного хранения информации, а также условием и средством возможной дистанционной связи биосистем на уровне подсознания и даже сознания посредством внешнего биоэлектрического поля, вакуума и субстанции. На такой основе в принципе возможны у экстрасенсов явления телекинеза, ясновидения и т.п.
Приведем исторические факты, свидетельствующие о явлениях подобного рода. Эмануэль Сведенборг*274, известный своими трудами в области математики, механики, астрономии, горного дела, «в конце 1759 г., находясь в Готенбурге, ... сообщил знакомым, что в Стокгольме начался пожар. Через несколько часов он заявил, что пожар потушили, и он описал его размеры. Спустя два дня в Готенбурге было получено известие, подтверждающее видение Сведенборга»90. Аналогичным экстрасенсом в России во времена Ивана Грозного был Василий, прозванный Блаженным, именем которого был назван воздвигнутый в Москве храм*275. Д.И. Дубровский правильно подчеркивает, что хотя «наука пока не может дать основательного объяснения некоторых феноменов человеческой психики, но из этого не следует, что данные феномены заведомо нереальны, что все это мистика или ловкие трюки»91.
Мы убеждены, что субстратная система, обладающая соответствующим строением, именно в силу и в меру ее связи с непрерывным биопсиполем способна проявить свойства жизни и психики в выраженной форме. Быть может, поэтому столь иерархично строение белковых организмов (и даже ДНК с ее сверхспиральностью). Вероятно, такое строение и обеспечивает не только оптимум контакта тела с биопсиполем, но и возможность «сверхтекучего» движения этого квазивихря сквозь субстратную решетку биосистемы. Нарушения ее структуры сокращают сферу контакта организма с биополем, ликвидируют условия «сверхпроводимости», необходимые для движения последнего, т.е. ослабляется связь тела с данной формацией. При этом в нем наступает известный диссонанс в системе биохимических процессов и физиологических отправлений, ведущий в конечном счете к патологии в проявлении телом психических функций биопсиполя вплоть до временной или полной потери сознания человеком.
С этой точки зрения многообразие психопатологических состояний человека связано с глубиной и обширностью деструктивных изменений в соматической подсистеме живого организма, которыми обусловливаются адекватные им степени изоляции центральной нервной системы от биопсиполя как субстрата психики и носителя информационного содержания сознания субъекта. Вариации отклонения связи биопсиполя с телом от нормы (характерной для состояния бодрствования здорового организма) могут выражаться целым спектром явлений (сон, сомнамбулизм, летаргия, анабиоз у животных и другие виды угасания или нарушения биопсихических проявлений в организмах). Значительные деструкции в теле, обусловливающие адекватное нарушение связи биопсиполя с соматической подсистемой человека или животного, могут вызвать и полный разрыв этой связи, означающий неизбежность биологической смерти данного организма.
При локальном сохранении связи биополевой формации с телом, когда степень структурно-функциональных изменений в нем такова, что они с помощью средств реанимации могут быть приостановлены и устранены, нормальная связь биополя с реабилитированной телесной подсистемой восстанавливается. Процесс нормализации связи тела с биополем (как носителем всей информации) является условием не только возвращения сознания; но и возможного фиксирования реанимируемым субъектом даже необычных картин, возникающих именно в период состояний, «когда душа отделяется от тела»92. Известный американский астроном X. Шепли отмечает, что «вероятность существования ощущений и органов чувств, неизвестных сейчас человеку, высока...»93. Эту спсобность иного восприятия мира и может проявить биопсиполе человека, выходя за пределы организма частично или на короткое время даже полностью в состоянии клинической смерти.
Экзотичность таких картин у реанимируемых, достигаемая на основе биопсиполя, находится в прямой зависимости от тяжести состояния клинической смерти. В наиболее кризисных ситуациях биопсиполе соответственно более автономно, ибо аномально проникает за пределы организма и потому способно к необычному (без помощи анализаторов) восприятию и созданию информационных образов, к реализации прочих видов рецепции, оказывающихся фантастическими из-за возникновения их в непосредственном контакте биопсиполя с объектами окружающей среды. Но случаев «оживления» лиц, находившихся в наиболее тяжелых состояниях клинической смерти, не столь много, а потому редко кто из общего числа реанимированных свидетельствует о пережитых им каких-то необычных «видениях». Этим и можно объяснить тот факт, что большинство из оживленных находилось в процессе реанимации в состоянии глубокого сна, без сновидений.
Дальнейшее совершенствование путей и средств реанимации, а также методов генной инженерии, возможно, позволит человеку достичь, например, практического бессмертия как этапа на пути к безусловному индивидуальному бессмертию. Т.В. Карсаевская и А.Т. Шаталов пишут, что исследование этой проблемы, по мнению выдвигающих ее энтузиастов, может стать предметом новой науки – «иммортологии», науки о бессмертии94.
В этом плане представляется программной мысль физика Дж. Бернала: «Смерть... не выполняет больше полезной роли в человеческом обществе. Сейчас, когда мы выросли до осознания подлинных фактов, касающихся смерти, до осознания ее связи с возрастающей бренностью более сложных (курсив наш. – А. М.) организмов, мы поняли, что смерть в принципе никоим образом не неизбежна, и мы должны позаботиться о том, чтобы найти способы отсрочить или избежать ее»95. В данной связи отметим, что в суперустойчивости именно простейшего по своей структуре биопсиполе-вого макрокванта как континуальной реалии и коренится возможность достижения индивидуального бессмертия человека, поскольку такой квант, как носитель всей информации субъекта по излучении из организма (в случае смерти последнего), может сохраняться потенциально бесконечно.
Как тончайшая полевая формация, как бесточечная непрерывность, биополе не может быть разрушено, ибо более тонких структур, способных расчленить его, не существует, а структурно более сложные образования в силу своей одискреченности проницаемы для него. При любой такой попытке оно «туннелирует» сквозь любые «поры» в структуре предполагаемого орудия разрушительного воздействия. Поэтому биополе правомерно рассматривать как надежно сохраняющуюся информационно-голограммную основу принципиальной возможности даже посмертного восстановления, но существенно преобразованного организма для потенциально бесконечного существования. Последнее предполагает коренное преобразование вещественной, телесной подсистемы в адекватную биопсиполю динамично-устойчивую подсистему полевого типа (скажем, напоминающую хотя бы поле постоянного магнита) как средство проявления биопсиполевой голограммы организма, предстающей в виде голографического образа бывшего телесного облика индивида в лучшую пору его жизни, но ставшего полевой системой.
«Материалом» подобного «квазителесного обрамления» для биопсиполя могут послужить множество клеточных микробиополей, а также вещественные элементы организма, преобразуемые в поля. Физик-теоретик Харальд Фрич пишет, что «даже все вещество Вселенной в конце концов превратится в свет»96, в полевой субстрат. Упомянутые микрообразования полевого типа соединяются с биопсиполем бывшего организма в силу известной современной физике квантовофизической корреляции между микрообъектами, однажды оказавшимися в соответствующей связи друг с другом. Эту корреляцию при любых расстояниях между системами микроуровня Д. Бом, В.А. Фок и другие называли несиловым взаимодействием, а Дж. Белл экспериментально подтвердил наличие такой связи в бытии.
Таким образом, некоторые идеалистические по форме соображения Дж. Экклза относительно индивидуального бессмертия могут получить, по нашему мнению, вполне научную интерпретацию. Денотатом понятия о душе, допускаемого современной наукой, правомерно признать материально-полевую формацию континуального характера, т.е. биопсиполе, функционирование которого на основе его атрибута отражения обусловливает все черты психики биосистемы. Суперустойчивость биопсиполя благодаря его континуальности, динамичности и топологической инвариантности «делает» эту формацию неуничтожимым «соучастником вечности», связанным с безначально существующей субстанцией полевого типа, являющейся глубинной причиной и универсальной основой существования вещественных и полевых образований. В рамках организма тогда понятна связь его вещественного тела с душой, т.е. столь же материальной подсистемой, хотя и невещественного, полевого типа. При этом подходе исчезает непостижимость взаимодействия тела и души, свойственная идеалистическим концепциям, не усматривающим объективной общности у названных компонентов живого организма. Но так как биополе обычно ускользает от непосредственной регистрации соматическими анализаторами человека, оно в истории познания служило и до сих пор пока еще остается объектом либо идеалистических спекуляций, либо нигилистически-механистического отрицания его под флагом борьбы с душой вообще.
Однако ни древними материалистами (Гераклит*276, Демокрит*277, Эпикур*278), ни в Новое время (Радищев*279 и др.), ни диалектическим материализмом97 не отрицалась принципиальная возможность обнаружения такого структурного компонента в живой системе, который идентичен материалистически понимаемой душе.
Диалектический материализм не может быть не совместим с признанием биополя в качестве материального субстрата психики, т.е. ее связь с мозгом не должна абсолютизироваться. Современная наука прилагает усилия к созданию искусственного интеллекта, отнюдь не намереваясь воссоздать при этом человеческий мозг и тем более самого человека как якобы в принципе единственной системы, способной мыслить. Следовательно, именно недиалектический, узкий, по существу неомеханистический подход с позиций устоявшихся частнонаучных понятий и принципов к совершенно новой проблеме – биополю – не может служить основанием для того, чтобы столь поспешно похоронить ее под тяжкой плитой забвения с куцей эпитафией: «лженаука».
С позиций обсуждаемой концепции вне биополя человек мертв, и ни о каком творческом потенциале его в таком состоянии не может быть и речи. Поэтому мы считаем, что биополевую формацию как субстрат психики и основу выработки, преобразования и устойчивого хранения информации правомерно признать базисным элементом в системе детерминации творческого потенциала личности, который функционально возрастает по мере исторического развития человека, обогащения информационного содержания его сознания в общественно-исторической и производственной практике, в условиях научно-технического прогресса и социально-экономического развития. Вне таких условий было бы существенно затруднено формирование и раскрытие творческого информационно-отражательного потенциала субъекта, становление его как личности, адекватной фазе развития социально-экономической формации.
Именно в функциональном аспекте биопсиполя, а точнее, в информационно-отражательном плане и правомерно говорить о сущности человека как социальном феномене, представляющем собой отражение общественных отношений в нашем сознании (как компоненте психики, являющейся атрибутивной функцией биопси-полевого субстрата организма) и оказывающемся одним из фундаментально важных уровней человеческой сущности как многоуровневой реалии, носящей биосоциальный характер. Совокупность общественных отношений не может непосредственно вместиться в человеке в качестве его сущности.
Любые общественные отношения внешни для субъекта, т.е. он в них вступает, а не наоборот, как отмечал К. Маркс. Однако осознание, отображение личностью общественных отношений, а значит, и обладание их информационно-отражательными образами, а также умениями и навыками как способностями к действию являются существенными моментами содержания сознания, психики, характеризующими социальность субъекта, обусловливающими многообразие его общественных ролей как граней человеческого фактора. Осуществление их в обществе выступает в виде социальных действий, которые невозможны для человека вне единства его телесного компонента с биополевой формацией как субстратом его жизни и психики.
Вместе с тем контакты, связи, отношения личностей (прежде всего производственные) создают социум соответствующего ранга, существующий, однако, не только на основе действующих вещественных систем. Бытие этого социума дополняется и системой полевого характера, возникающей в процессе объединения биополей индивидов в сложную надстроечную макросистему (подобную незримой мегасистеме гравитационных полей в космосе). Она выступает своеобразной ноосферой, несущей в себе и общественное сознание. В последнем, однако, интегрируется лишь тот «срез» информационного содержания индивидуальных сознаний, который отражает именно общественное бытие. Общественное сознание оказывается мысленным конструктом, формирующимся в процессе интеграции определенных социально значимых аспектов информационного содержания соответствующих индивидуальных сознании.
Поэтому общественное сознание, опирающееся на ноосферу (подобно индивидуальному в рамках своего биополя), имеет статус относительно самодействующей социальной системы надстроечного характера и играет существенную роль в жизни общества. Это позволяет предположить, что и для социальных явлений важна база биополевого типа, а тесное единство этих сфер обусловливает биосоциальную сущность человека. Ведь и элементы телесной подсистемы организма обладают микробиополями на уровне клеток, тканей, органов. Поэтому естественно, что в настоящее время «ученые пытаются обнаружить некие наиболее универсальные принципы живой материи, более общие, чем наблюдаемые в природе»98. По-видимому, сфера их действия – континуальные поля различных типов, свойственные белковым и небелковым биосистемам.
Сноски С.Г. Семеновой
01 Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 235.
03 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М.: Наука, 1965. С. 271.
04 Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. – М., 1952. С. 383.
05 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человека. – М.: Наука, 1977. С. 132.
06 Вернадский В.И. Размышления натуралиста: Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1977. С. 55.
07 Вернадский В.И. Живое вещество. – М.: Наука, 1978. С. 308.
08 Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1909. С. 293.
09 Умов Н.А. Эволюция живого и задача пролетариата мысли и воли. – М., 1906. С. 10.
10 Федоров Н.Ф. Соч. – М., 1982. С. 501.
11 Сухово-Кобылин А.В. Философия летания // ЦГАЛИ, ф. 438, оп. 1, ед. хр. 157.
12 Сухово-Кобылин А.В. К летанию // ЦГАЛИ, ф. 438, оп. 1, ед. хр. 156.
13 Ренан Э. Философские диалоги и отрывки // Собр. соч: В 5 т. Т. 5. Киев, 1902. С. 163.
14 Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Проблемы биогеохимии: Труды биогеохимической лаборатории. Вып. 16. М.: Наука. С. 218.
15 Переписка В.И. Вернадского и П.А. Флоренского // Новый мир. 1989. №2. С. 197.
16 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1912. С. 107.
17 Федоров Н.Ф. Соч. – М., 1982. С. 301.
18 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. С. 19.
19 Вернадский В.И. Очерки и речи: В 2 т. Т. 1. – Пг, 1922. С. 131.
20 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. С. 36.
21 Вернадский В.И. Очерки геохимии. – М.: Наука, 1983. С. 253.
23 Вернадский В.И. Автотрофность человечества // Проблемы биогеохимии: Труды биогеохимической лаборатории. Вып. 16. С. 242-243.
24 Купревич В. Долголетие: реальность мечты // Лит. газета. 1968. № 49.
25 Купревич В. Путь к вечной жизни // Огонек. 1967. № 35.
26 Купревич В.Ф. Долголетие: реальность мечты.
27 Манеев А.К. Философский анализ антиномий науки. – Минск, 1974. С. 130- 131.
29 Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.. 1988. С. 522 (далее страницы этого издания указываются в скобках после цитаты).
30 Цит. по: Мочалов И.И. В.И. Вернадский – человек и мыслитель. – М.: Наука, 1970. С. 113.
31 Холодный Н.Г. Мысли дарвиниста о природе и человеке. – Ереван, 1944. С. 40-41.
33 Циолковский К. Научная этика. – Калуга, 1930. С. 15.
35 Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. 2. М., 1913. С. 58.
38 Письмо к И.М. Гревсу от 4 октября 1933 г. // Мочалов И.И. В.И. Вернадский. М.: Наука, 1982. С. 278-279.
39 Иваницкий П. Пролетарская этика // Биокосмизм: Материалы № 1: Креаторий биокосмистов. М., 1922. С. 13. Один из наиболее серьезных участников движения – П.И. Иваницкий особо интересовался регуляцией климата. См. его брошюру «Искусственное дождевание» (М., 1925).
40 Святогор А. «Доктрина отцов» и анархизм-биокосмизм // Биокосмизм: Материалы № 2: Креаторий биокосмистов. С. 15.
41 Вернадский В.И. По поводу критических замечаний академика А.М. Деборина // Известия АН СССР. Отд. математ. и естеств. наук. 1942. № 4. С. 404.
42 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. С. 36.
Сноски составителей (С.Г. Семеновой и А.Г. Гачевой)
43 Одоевский В.Ф. Русские ночи. – Л.: Наука, 1975. С. 137. Далее при ссылках на это издание его страница указывается в скобках после цитаты.
45 Булгаков С.Н. Душа социализма // Новый град (Париж). 1931. № 2.
Сноска В.Ф. Одоевского
44 По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы. (Здесь и далее цифрами обозначены авторские примечания).
Сноска В.С. Соловьева
46 От греч. сизигия – «сочетание». Я принужден ввести это новое выражение, не находя в существующей терминологии другого, лучшего. Замечу, что гностики употребляли слово «сизигия» в другом смысле и что вообще употребление еретиками известного термина еще не делает его еретическим.
Сноски С.Н. Булгакова
47 «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле... Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия Своего: но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к делу его» (Книга Премудрости Соломона. 1, 13-14; 2, 23).
48 София имеет много аспектов, из которых мы останавливаем внимание лишь на одном, именно космическом. Это очень важно иметь в виду для того, чтобы не впасть в самое грубое недоразумение и не принять космического аспекта Софии за единственный. Но ввиду того, что нас здесь интересует только проблема хозяйства и выяснение софийной ее основы, мы считаем себя вправе не останавливаться на вопросе о Софии в ее других многогранных аспектах. Ср. об этом у св. П.А. Флоренского. Столп и утверждение истины, 1912 (глава о Софии). Путь.
49 От этого пункта строится учение о взаимном отношении хозяйства и искусства, о хозяйственной стороне искусства и о художественной стороне хозяйства. Искусство есть цель и предел хозяйства, хозяйство должно возвратиться к своему первообразу, превратиться в искусство.
50 Ср. о них мои работы: «К. Маркс как религиозный тип» («Два града» и отдельно) и «Загадочный мыслитель» (там же), а также соответственные главы в «Свете Невечернем» (М., 1917).
Сноски В.Н. Муравьева
51 Ср. проф. Н.А. Умов – Эволюция живого и задачи пролетариата мысли и воли, стр. 10, 33*139. (Здесь и далее сохранены особенности авторского оформления сносок. – А. Г.)
52 Ср.: Н.Ф. Федоров. Супраморализм или всеобщий синтез. «Философия Общего Дела». Т. 1, ст. 399 и сл.
53 Можно указать на блестящие изыскания и опыты в области физиологии и биологии русских ученых – профессоров Бахметьева*165, Воронцова*166, Кольцова*167, Кравкова*168 и других.
54 В современной биологии точка зрения раннего дарвинизма, видевшая единственный стимул действия в побуждениях к индивидуальному самосохранению путем борьбы и соперничества, в настоящее время сменяется признанием выдающейся роли кооперации и симбиоза организмов. Американский биолог В. Паттен*175 указывает, что растения и животные создаются троякой системой такой кооперации: внутренним сотрудничеством частей организма, сотрудничеством с другими существами, наконец, согласованным действием организма с факторами космического процесса. Можно отметить, что эта точка зрения уже ранее отстаивалась против учения знаменитого Гекслея*176 в работах П.А. Кропоткина*177.
Сноски А.К. Горского
55 Эренбург И. Новая архитектура // Известия ВЦИК, Москва, 9 января 1927 г. Это заявление есть плачевный финал долгих конструктивистических увлечений и чаяний автора, выраженных ранее в книге «А все-таки она вертится». Берлин:. Геликон, 1922.
56 Удин Ж.Д. Искусство и жест / Пер. С.М. Волконского. С. 207.
57 Творчество: Сборник статей. Петроград. 1923. С. 15.
58 Академик А. Ферсман. «Пути к науке будущего». Речь, произнесенная на годичном акте Географического института 30 января 1922 г. Петроград. Научно-химико-техническое издательство. С. 7-13.
59 Эта «новая область» и есть именно то, что разумел автор «Философии общего дела», говоря об астрономии, в которую должна влиться физика со всеми прочими науками. Будем ли мы это слитное единство называть астрономией, или астрофизикой, или, наконец, просто физикой (в смысле универсальной науки о «естестве», о всем сущем), от этого, конечно, дело не изменится.
60 Академик Ферсман. Пути к науке будущего. С. 46-51.
Сноски Н.А. Сетницкого
61 Фашизм должен быть отнесен именно к этому типу политико-общественных построений.
62 Эта идея, что в эсхатологии мы имеем не конец, а перерыв, повторяется П. Новгородцевым два раза. Но позволительно спросить: какая же разница между концом и перерывом вообще и в данном случае в частности? Мыслить их применительно к мыслям автора можно только так: конец наступает тогда, когда заложенные в том или ином процессе потенции исчерпаны полностью. Стрела на излете, падающая на землю, заканчивает свой полет. Стрела, вонзающаяся в цель, прерывает его. Но практически в уточнении словесных различий никакой разницы между перерывом и концом нет. Можно было бы сказать, что перерыв мы имеем тогда, когда в случае устранения, удаления с пути движения стрелы причины перерыва (цели) процесс начнет реализовываться далее до конца (до излета). Но достижение идеала (удар стрелы в цель) представляет такое положение, при котором «возврат назад уже становится немыслимым». Практически, следовательно, здесь нет никакой надобности в утонченных дистинкциях, и понятия «перерыв» и «конец» здесь значат одно и то же.
Сноски и примечания В.И. Вернадского
63 Другие не связанные с жизнью реакции его образования (радиохимическое разложение молекул воды и такое же световое – ультрафиолетовые лучи) дают сравнительно ничтожные массы его.
64 Такая дифференциация жизни, ее единства происходит без заметного изменения в течение геологического времени ее химического состава и ее массы.
65 Есть русский перевод. См.: Лассвитц Курд. На Земле и на Марсе (на двух планетах). Роман в 2-х частях. М., 1903, 571 с.
66 Любопытно, что я столкнулся при этом с забытыми мыслями оригинального баварского химика X. Шёнбейна (1799–1868) и его друга, гениального английского физика М. Фарадея (1791–1867). В начале 1840-х гг. Шёнбейн печатно доказывал, что в геологии должна быть создана новая область – геохимия, как он ее тогда же назвал.
67 К сожалению, до сих пор оставшиеся после К. Вольфа рукописи не изучены и не изданы. В 1927 г. Комиссией по истории знаний при Академии наук СССР эта задача была поставлена, но не могла быть доведена до конца.
68 Криптозойской эрой я называю, согласно современным американским геологам, например Карлу Шухерту, умершему в 1942 г. (Ch. Schuchert and S. Dunber A textbook of geology Р. II. N.Y., 1941. P. 88), тот период, который назывался раньше азойской или археозойской эрой (т.е. безжизненной или древнежизненной). В криптозойской эре морфологическая сохранность остатков организмов сходит почти на нет, и они отличаются откембрия, но существование жизни здесь проявляется в виде органогенных пород, происхождение которых не вызывает ни малейших сомнений.
69 См.: D. Gilman The life of J.D. Dana, N.Y. 1889. Глава об экспедиции написана в этой книге Ле Контом. Работы Ле Конта «Evolution», 1888 г., я не имел в руках. Он считал это главным своим трудом. О «психозойской эре» он указывает в своей книге «Elements of geology», 5-th, 1915, с. 293, 629. Его автобиография издана в 1903 г.: W. Armes (Ed.). Autobiography of Joseph Leconte. London, 1903.
70 Я и мои современники незаметно пережили резкое изменение в понимании окружающего нас мира. В молодости как мне, так и другим казалось – и мы в этом не сомневались, – что человек переживает только историческое время – в пределах немногих тысяч лет, в крайнем случае десятков тысяч лет.
Сейчас мы знаем, что человек сознательно переживал десятки миллионов лет. Он пережил сознательно ледниковый период Евразии и Северной Америки, образование Восточных Гималаев и т.д. Деление на историческое и геологическое время для нас сейчас сглаживается.
71 В 1934 г. вышло последнее переработанное издание «Очерков геохимии». В 1926 г. появилось русское издание «Биосферы», в 1929 г. – ее французское издание. В 1940 г. вышли мои «Биогеохимические очерки», а с 1934 г. выходят в свет «Проблемы биогеохимии». Третий выпуск «Проблем биогеохимии» сдан в печать в этом году. «Очерки геохимии» переведены на немецкий и японский языки.
72 Слово «ноосфера» составлено из греческого ноос – «разум» и сфера в смысле оболочки Земли. Лекции Леруа вышли тогда же по-французски в виде книги: E. le Roy. L’exigence idéaliste et le fait d’évolutin. Paris, 1925. P. 406.
73 A. Lotka. Elements of physical biology. Baltimaurt, 1925. P. 406.
Сноски А.К. Манеева
74 Колмогоров А. // Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1969. С. 13.
75 Казначеев В. // Поиск, 1989. 11. С. 8.
76 Манеев А.К. Движение, противоречие, развитие. М., 1972.
77 Хеберт Н. // За рубежом. 1987. № 30.
78 Eccles J. Facing Ready. New York; Heidelberg; Berlin 1970, р. 150.
81 Лурия А.Р., Гургенидзе Г.С. // Вопр. философии. 1972. № 6. С. 152.
82 Жуков Н.И. Проблема сознания. Мн., 1987. С. 146-147.
85 Анохин П.К. // Ленинская теория отражения и современная наука. М., 1966. С. 288-289.
86 Яровой Ю. // Простор. 1974. № 11. С. 77-79.
87 Кобозев Н.И. // Журнал физич. химии. М., 1966. Т. 15. Вып. 4. С. 794.
88 Последний реализуем в соответствующей ситуации, например когда при равенстве антинаправленных импульсов провзаимодействовавших объектов их кинетические энергии неодинаковы из-за различия масс (необходимое изменение в структуре процессов осуществимо на основе платформы, с поднятыми бортами которой сталкиваются указанные тела).
99 Брушлинский А.В. // Мышление: процесс, деятельность, общение. М., 1982. С. 8.
90 Гуревич П.С. Возрожден ли мистицизм? М., 1984. С. 28.
91 Дубровский Д.И. // Филос. науки. 1987. № 7. С. 108.
92 Гуревич П. // Лит. газ. 1985, 25 дек. С. 13.
93 Шепли X. Звезды и люди. М., 1962. С. 24.
94 Карсаевская Т.В. Диалектика социального и биологического в целостном процессе жизнедеятельности: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. М., 1984. С. 39.
95 Бернал Дж. Возникновение жизни. М., 1969. С. 224.
96 Fritsch H. // Menschen und Kosmos. Bem, 1980. S. 231-232.
97 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 271.
98 [В полиграфическом издании дана ссылка на эту сноску, но текст сноски по недосмотру корректоров отсутствует. В сноске, очевидно, указывался источник цитаты, взятой в кавычки, но из-за досадной типографской лакуны источник этот остался неизвестным. Найти его путем поиска в Интернете не удалось. – М. Б.]
*1 Отрывки из романа печатаются по изданию: Одоевский В.Ф. 4338 год. Петербургские письма. М., 1926. (Здесь и далее «звездочками» отмечены примечания А.Г. Гачевой).
*2 Опыты австрийского врача Ф. Месмера (1734–1815), основанные на представлении о так называемом животном магнетизме, посредством которого можно изменять состояние человеческого организма и лечить его недуги.
*3 Нехао или Нехо II (609–595 до н.э.) – египетский фараон.
*4 Дарий I (521–486 до н.э.) – персидский царь.
*5 Псамметих I (665–609 до н.э.) – египетский царь.
*6 Солон (ок. 638 – ок. 559 до н.э.) – политический деятель в Афинах.
*7 Модники, задающие тон в светском обществе (англ.).
*9 На манер цвета апельсина (фр.).
*10 Теория, по которой на основании строения черепа якобы можно судить об умственных и нравственных качествах человека.
*11 И люди сознают это естественно (фр.).
*12 Публикуется по рукописному тексту (ЦГАЛИ, ф. 438).
*13 Августин Блаженный (354–430) – христианский теолог. В сочинении «О граде Божием» «граду земному», государственности противопоставил «град Божий» (Civitas Dei – иной, совершенный порядок бытия, основанный на любви Бога к человеку и человека к Богу.
*14 Смыкание, соединение (арх.).
*15 Краткое и меткое изречение, афоризм (греч.)
*16 (От лат. evolutio.) Развивается, развертывается, переходит.
*17 (От лат. involutio.) Свертывается, «свивается», исходит.
*19 Несколько неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы».
*20 Первоначальным, первичным (фр.).
*22 Целевая причина, определение сущности вещи через высший смысл ее бытия, финальную ее предназначенность. Неологизм Аристотеля.
*23 Кирхгоф Густав Роберт (1824–1877) – немецкий физик, заложил основы спектрального анализа.
*27 Предлагаемый текст представляет собой отрывки из четвертой части большой работы Н.Ф. Федорова «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим». Печатается по: Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова, изданные под редакцией В.А. Кожевникова и Ч.П. Петерсона. Т. 1. Верный, 1906.
*28 Так назывались в конце прошлого века разъезды военных кораблей (крейсеров) по морям и океанам для захвата неприятельских торговых судов. Крейсерство существовало со времени парижской морской декларации 1856 г.
*29 Мальтус Томас Роберт (1766–1834) – английский экономист. В работе «Опыт о законе народонаселения» (1798) сформулировал так называемый естественный закон народонаселения, согласно которому население растет в геометрической прогрессии, а средства существования – лишь в арифметической.
*30 Выходящей за пределы опыта и познания.
*31 Внутреннюю, находящуюся в границах опыта.
*32 Вознесения, воспарения (арх.).
*33 Религиозные подъемы, распространенные в Новое время на Западе и особенно в Америке; сопровождались массовыми взрывами раскаяния, которые выражались в плаче, криках, самобичевании, а подчас переходили, как пишет Федоров, «в ссоры, драки кающихся между собой», даже в убийства.
*35 Оракул при храме Аполлона в Дельфах, религиозном центре Древней Греции.
*37 Крукс Уильям (1832–1919) – английский физик и химик.
*38 Томсон Джозеф Джон (1856–1940) – английский физик. Предложил одну из первых моделей атома.
*41 Печатается по: Указ. соч. Т. 2. М., 1913.
*42 Федоров имеет в виду распространенный на Руси обычай построения обыденных (однодневных) храмов. Они воздвигались общим, бескорыстным трудом за один-два-три дня обычно во время бедствий (эпидемий, войн и т.д.) или в благодарение за Божию милость. В строительстве обыденных храмов мыслитель видел прообраз будущего восстановления храмов-тел умерших отцов.
*44 Федоров проецирует построение обыденных храмов на те дни недели (пятница, суббота, воскресенье), когда Церковь вспоминает крестную смерть, пребывание во гробе и воскресение Спасителя. При этом мыслитель особенно внимателен к значению субботы: ее ассоциирует не только со скорбным днем «пребывания во гробе», но и со всеми теми субботами, в которые творил свои дела Христос, вызывая негодование фарисеев (в иудаизме суббота – священный день покоя). В проповеди Христа о субботе, утверждающей, что приумножать добро в священные дни отнюдь не противоречит воле Божией («Сын Человеческий есть господин и субботы». Матф. 12, 8), а, напротив, является исполнением этой воли (о чем свидетельствует пример самого Христа: в субботу Он исцелял больных и воскресил Лазаря), Федоров увидел обоснование человеческой активности в деле спасения, вплоть до самых завершающих его этапов: воскрешения умерших, низвержения смерти, обо́жения всей твари, всего космоса.
*46 Печатается по: Соловьев В.С. Собр. соч: В 10 т. / Под ред. и с примеч. С.М. Соловьева, Э.Л. Радлова. 2-е изд. – СПб., 1911–1914. Т. 6.
*47 Учение, согласно которому в процессах и явлениях природы скрыта целесообразность и развитие устремляется к заранее предопределенной цели.
*48 Здесь: ископаемые животные.
*49 Печатается по: Указ. соч. Т. 7.
*50 Противоречие в определении (лат.).
*51 Чувствилище Божества (лат.).
*52 Печатается по: Указ. соч. Т. 10. Входит в цикл «Воскресные письма» (всего 22 письма), печатавшиеся в 1897–1898 гг. в газете «Русь».
*53 Работа представляет собой краткий конспект статьи Н.А. Умова «Эволюция мировоззрений в связи с учением Дарвина», напечатанной в качестве предисловия к вышедшему в 1909 г. в Москве переводу сочинений Каруса Штерне. Конспект был напечатан в «Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou» (1908). Текст дается по: Умов Н.А. Собр. соч. Т. 3. М., 1916.
*54 Человек разумный исследующий (лат.).
*55 Аксиомы или законы движения (лат.).
*56 Аксиомы или законы жизни (лат.).
*57 Впервые напечатано в журнале «Природа» в 1912 г. Печатается по: Указ. соч. Работа дается с небольшими сокращениями.
*58 Цитата из «Опыта философии теории вероятностей» французского астронома, математика, физика и философа Пьера Симона Лапласа (1749–1827). В русском переводе сочинение Лапласа вышло в Москве в 1908 г. Умов в данном случае дает собственный перевод.
*59 Цитата из того же соч. П. Лапласа. Умов дает собственный перевод.
*60 Сенека Луций Анной (ок. 5 до н.э. – 65 н.э.) – римский философ, поэт и госу дарственный деятель, представитель стоицизма. В «Исследованиях о природе» утверждал мысль о бесконечном прогрессе человеческого знания.
*61 Пастер Луи (1822–1895) – французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии; разработал метод профилактической вакцинации против куриной холеры, сибирской язвы, бешенства.
*62 Религиозно-этическое учение, возникшее в XVII в. внутри католицизма. Его сторонники проповедовали созерцательное, пассивное отношение к миру, безра личие к добру и злу, к раю и аду, покорность божественной воле, вплоть до равнодущия к собственному спасению. В более общем смысле – синоним пассивности, отказа от деятельности. Элементы квиетизма содержались в учении Л. Толстого непротивлении злу насилием, к которому Умов относился отрицательно.
*63 «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет эаботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф. 6, 34).
*65 Величина, которой можно пренебречь (лат.).
*66 Подглавка главы 4-й «О трансцендентальном субъекте хозяйства» из книги «Философия хозяйства» с небольшими сокращениями печатается по: Булгаков С. Философия хозяйства. Ч. 1. М., 1912.
*67 Природа порождающая и природа порожденная (лат.).
*68 Противоречие в определении (лат.).
*69 Речь об этом идет в предшествующей подглавке «Человек и человечество».
*70 В действительности (лат.).
*71 В возможности, потенциально (лат.).
*72 Рожденная, созданная (лат.).
*73 Цитата из стихотворения В.С. Соловьева «Хоть мы навек незримыми цепями» (1875).
*74 Неточная цитата из книги Бытия. 2, 2.
*75 Ничто не на́чало быть, что́ на́чало быть (церковнослав.).
*76 Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) – немецкий философ-идеалист; в сочинении «Философские исследования о сущности человеческой свободы» (1809) происхождение материального мира и исток зла в нем объяснял отпадением «основы» (природы в Боге), подчинившейся неразумной, слепой воле, от Бога. {Бол}
*77 Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ-иррационалист. В основном своем сочинении «Мир как воля и представление» (1819–1844) определял сущность мира как слепую волю, темное влечение к жизни.
*78 В религиозном сознании Древней Греции присутствовали образы двух Афродит: Урании – небесной, изначально олицетворявшей космическую, зиждительную силу природы, а затем – возвышенную, неземную любовь, и Пандемос (букв. – всенародная) – покровительницы брака, народного единства, с которой связывался также культ любви страстной и чувственной. Платон (427-347 до н.э.) в диалоге «Пир» использует образ «двух Афродит» для обоснования идеи о «двух Эротах»: влечении к небесному, к прекрасному, ко благу и влечении «пошлом», «разнузданном», всецело «земном».
*79 Войной всех против всех (лат.). Это выражение употреблялось английским философом-материалистом Томасом Гоббсом (1588–1679) для обозначения естественного состояния людей в период до образования человеческих обществ.
*80 Статья (в сокращении) печатается по: Новый град / Под ред. И. Бунакова, Ф. Степуна, Г. Федотова. Париж, 1931.
*82 deus ex machina. Буквально: «бог из машины» (лат.). Обозначает неожиданную развязку, которая не вытекает из хода событий, является извне. Исторически восходит к греческой трагедии, где конфликт часто разрешался появлением бога при помощи специального театрального механизма. { ; god from the machine
; god from the machine  }.
}.
*83 Буквально: предыстория (нем.).
*84 Буквально: история (нем.).
*85 Термин, введенный последователями учения Н.Ф. Федорова А.К. Горским и Н.А. Сетницким в работе «Смертобожничество» (Харбин, 1926). Под смертобожничеством они понимали утверждение неизбежности, непреодолимости смерти для человека и человечества, т.е. фактическое обоготворение смерти.
*86 Кожевников Владимир Александрович (1852–1917) – ученый, философ, поэт. Автор многочисленных книг и статей, в том числе двухтомного исследования по буддизму. Ученик Н.Ф. Федорова; после его смерти вместе с Н.П. Петерсоном издал рукописи мыслителя.
*87 Петерсон Николай Павлович (1844–1919) – ученик Н.Ф. Федорова. Один из редакторов и посмертных издателей сочинений мыслителя. Автор книги об учении Федорова, ряда статей и неопубликованных воспоминаний.
*88 Слова из письма В.С. Соловьева к Н.Ф. Федорову от 12 января 1882 г. // Письма В.С. Соловьева/ Под ред. Э.Л. Радлова. Т. 2. СПб., 1909. С. 345.
*89 Печатается с сокращениями по публикации в журнале «Декоративное искусство» (1969, № 12). См.: Карр Е. Grundlinien einer Philosophie der Technik, Westermann, 1877. На русском языке некоторые главы этой книги были опубликованы в: Капп Э., Кунов Г., Нуаре Л., Эспинас А. Роль орудия в развитии человека. Л., 1925.
*90 См.: Карр Е. Grundlinien einer Philosophie der Technik, Westermann, 1877. На русском языке некоторые главы этой книги были опубликованы в: Капп Э., Кунов Г., Нуаре Л., Эспинас А. Роль орудия в развитии человека. Л., 1925.
*91 Карус Пауль (1852–1919) – американский философ-махист, проповедник так называемой теономии: «научной» теологии, согласно которой «вся истина божественна, и Бог открывает себя в естествознании так же, как в истории» (см. его работы «Теология как наука», «Философия как наука» (1909) и др.).
*92 Дю-Прель (Дюпрель) Карл (1839–1900) – немецкий философ, писавший по проблемам оккультизма, сомнамбулизма, спиритизма. Последовательно отстаивал идею эволюционизма, распространяя его на область трансцендентного, и монизм, для доказательства которого и использовал, в частности, идею органопроекции: «Капп доказал, что в человеческом организме преобразованы технические задачи и что <...> изучение этого организма может дать ключ к решениям этих задач. <...> Значит, область органического восполняется областью технического, дух продолжает дело материи» (Дюпрель К. Спиритизм. М., 1904. С. 11).
*93 Филиппов Михаил Михайлович (1858–1903) – русский ученый, писатель, журналист.
*94 Протагор (ок. 480 – ок. 410 до н.э.) – древнегреческий философ-софист.
*95 Геккель Эрнст (1834–1919) – немецкий биолог-эволюционист и философ, выдвинувший натурфилософское учение «монизма» на основе теории Дарвина и некоторых элементов спинозизма.
*96 Оптический прибор, предназначенный для получения изображения светлых предметов на плоскости. Простейший вид камеры обскуры (светонепроницаемый ящик с проколом в одной из стенок) был известен еще арабским ученым; более совершенная камера обскура (изобретена итальянцем Порта) вместо прокола имеет выпуклое оптическое стекло. Оба типа камеры обскуры дают обратное изображение предметов. Используются в фотографии.
*97 Фехнер Густав Теодор (1801–1887) – немецкий физик, психолог, философ, основатель психофизики.
*98 Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704) – французский проповедник, историк и богослов, епископ. {Бол}.
*100 Наружный зародышевый листок многоклеточных животных, из которого развивается кожный эпителий, нервная система, органы чувств, передний и задний отделы кишечника.
*101 Альгасен, Альгазен (Ибн Аль-Хайсам) (965–1039) – арабский ученый, занимался физиологией и геометрической оптикой.
*102 Шейнер Кристоф (1575–1650) – немецкий астроном, физик и математик. Изучению зрения и глаза посвятил сочинение «Oculus, hos est fundamentum opticum» (1619).
*103 Юнг Янг Томас (1773–1829) английский физик, врач и астроном, один из создателей волновой теории света. Разрабатывал теорию цветового зрения, основанную на предположении о существовании в сетчатой оболочке глаза трех родов чувствительных волокон, реагирующих на три основных цвета.
*104 Гельмгольц Герман Людвиг (1821–1894) – немецкий ученый, математик, физик, физиолог, психолог. В 1859–1866 гг. разработал учение о цветовом зрении.
*105 Названа по имени фирмы братьев Люмьер, которая в 1907 г. впервые применила в фотографии растворные фотоматериалы, так называемые автохромные пластинки.
*106 Бабухин Александр Иванович (1827 или 1835–1891) – русский гистолог и физиолог, открывший образование электрических органов рыб из мышечных клеток (1869) и впервые доказавший, что нерв способен проводить возбуждение в обоих направлениях (1877). {Бол}.
*107 Огнев Иван Флорович (1855–1928) – русский гистолог, ученик А.И. Бабухина, продолживший изучение строения электрических органов рыб.
*108 Тайный, скрытый, предназначенный только для посвященных.
*109 Мейер Георг Герман (1815–1892) – германский анатом. Занимался исследованием скелета человека и внутренним строением костей.
*110 Кульман Карл (1821-1881) – немецкий инженер и математик, основатель графической статики.
*111 Вольф Юлиус (1836–1902) – немецкий хирург-ортопед, посвятивший себя исследованиям в области функциональной ортопедии. К. Кульман и Ю. Вольф в своем изучении архитектурного строения кости опирались на препараты Г. Мейера. Приводимые П. Флоренским сведения об их разработках, возможно, взяты непосредственно из книги Э. Каппа.
*112 Витрувий Марк – римский архитектор и инженер 2-й половины 1 в. до н.э., автор «Десяти книг об архитектуре» – единственного сохранившегося до нас полностью античного архитектурного трактата, где обобщен инженерно-технический, градостроительный и эстетический опыт, накопленный зодчеством эллинской Греции и Рима.
*113 П. Флоренский приводит письмо итальянского скульптора и архитектора Микеланджело Буонаротти (1475–1564), адресованное им кардиналу (вероятно, Родольфо Пио да Карпи). См.: Переписка Микель-Анжело Буонаротти и жизнь мастера, написанная его учеником Асканио Кондиви. СПб., 1914. С. 212-213.
*114 Крытая галерея, образуемая с одной стороны рядом колонн, выходящих на открытый воздух или широкое внутреннее пространство здания, а с другой – стеной этого здания. Перестильный двор (обнесенный со всех сторон крытой галереей) – составная часть многих античных жилых и общественных домов.
*115 Центральное помещение в древнегреческих храмах, святилище, в котором стояли статуи богов.
*116 Филон Александрийский (ок. 25 до н.э. – ок. 50 н.э.) – иудейско-эллинистический философ и богослов, оказавший большое влияние на развитие христианского богословия своим экзегетическим методом (методом истолкования текстов) и учением о Логосе.
*117 Бэкон Френсис (1561–1626) – английский философ, родоначальник методологии опытной науки. Конечной целью науки видел умножение могущества человека, его власти в мироздании.
*118 Письмо печатается по: Переписка В.И. Вернадского и П.А. Флоренского // Новый мир. 1989. № 2.
*119 Примечание публикаторов к письму: «Нарисована кривая, напоминающая гиперболу I = в первом квадранте, под которой ближе к началу координат жмутся шесть точек».
*120 Вера в систему есть суеверие (нем.).
*121 Ксенократ из Халкедона на Боспоре (396–314 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Платона.
*122 Немезий Эмесский (2-я половина V в. – нач. VI в.) – ранневизантийский мыслитель, автор сочинения «О природе человека», в котором стремился соединить с неоплатонизмом христианское учение о бессмертии души, свободе воли, божественном промысле.
*123 Григорий Нисский (ок. 335 – ок. 394) – церковный писатель и богослов, один из представителей греческой патристики.
*124 Отрывки из гл. II книги «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» печатаются по: Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989 (приложение к журналу «Вопросы философии»).
*125 Парацельс (псевдоним, настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541) – философ, естествоиспытатель, врач. В центре его учения стоит понимание природы как живого целого, проникнутого единой мировой душой. Идеи Парацельса оказали сильное влияние на Я. Беме (1575–1624) – выдающегося немецкого мистика, пантеиста.
*126 Дж. Бруно (1548–1600), Б. Телезио (1509–1588), Ф. Патрици (1539–1597) и другие. Натурфилософия Возрождения развивалась во многом в духе пантеизма (ср. знаменитый тезис Дж. Бруно: «Природа... есть не что иное, как Бог в вещах») и гилозоизма, представления о всеобщей одушевленности универсума.
*127 Лайелль (Лайель) Чарлз (1797–1875) – английский естествоиспытатель, один из создателей актуалистического метода в геологии, согласно которому объяснение минувшего следует искать в существующих явлениях природы.
*129 Фрагменты гл. V книги «Смысл творчества» печатаются по указ. соч.
*130 В сущности, Бердяев противопоставляет здесь эволюции пассивной, идущей вне сознательного участия человека, эволюцию активную и творческую, хотя и протестует против самого термина «эволюция», предпочитая выражение «творческое развитие».
*131 Фрагмент из книги «О рабстве и свободе человека» печатается по: Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1972.
*132 Экстериоризация (внешне выраженная форма существования) и объективация (отрыв объекта от субъекта, детерминация, отчуждение, подчинение необходимости) составляют, по Бердяеву, основу бытия «падшего» мира. Объективации мыслитель противопоставляет творчество, которое преодолевает законы необходимости, разрыв мира и человека.
*133 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – русский философ и писатель, представитель «нового религиозного сознания». Одна из основных тем его творчества – пол и религия. Провозглашал святость пола и рождения как источника жизни.
*134 Лавренс (Лоуренс, Лоренс) Дейвид Герберт (1885–1930) – английский писатель, автор известных романов «Сыновья и любовники» (1913), «Любовник леди Чаттерлей» (1928) на темы эротики и пола.
*135 Понимание мирового процесса как осуществления заранее предопределенных целей.
*136 Бутру Эмиль (1845–1921)- французский философ-идеалист. Выступал против механического детерминизма при объяснении явлений жизни и психики; считал, что в основе эволюции лежит случайный с точки зрения материальных законов творческий акт.
*137 Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770–1843) – немецкий поэт, связан с йенскими романтиками, автор незаконченной трагедии «Смерть Эмпедокла», герой которой бросается в кратер вулкана Этна, чтобы жить вечной жизнью с природой.
*138 Печатается (с небольшими сокращениями) по: Вселенское дело, № 2. Рига, 1934.
*139 Работа Н.А. Умова «Эволюция живого и задача пролетариата мысли и воли» появилась в Москве в 1906 г. Здесь он пишет о том, что человеческое творчество создает «новую, вторую природу среди старой», внешней, вовлекает мертвое, косное вещество в круговорот цивилизации и культуры.
*140 В своих философских сочинениях «Дилетантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении природы» (1845–1846) А.И. Герцен (1812–1870) утверждал, что «история человечества – продолжение истории природы», что человеческий разум, возникая как завершение стремлений и усилий природы, становится органом ее самосознания. Сама в себе природа не заключает смысла, смысл этот раскрывается в человеке, который продолжает «необходимое развитие Вселенной».
*141 Теория ионного возбуждения (ионная теория возбуждения) утверждает, что возбуждение в различных тканях и органах возникает в результате изменения концентрации ионов. Разработана учеными Ж. Лёбом, В. Нерстом и П.П. Лазаревым, который распространил выводы своих предшественников на органы чувств.
*142 Халдеи – речь идет о шумерах (к ним в конце XIX – начале XX в. ошибочно применялся термин «халдеи»), народе, населявшем Южное Двуречье и достигшем огромных успехов в математике и астрономии. Созданная ими шестидесятеричная позиционная система счета была воспринята вавилонскими математиками и положена ими в основу различных вычислительных таблиц.
*143 Пифагорейцы – сторонники религиозно-философского учения в Древней Греции VI–IV вв. до н.э., ведущего свое происхождение от Пифагора. Пифагорейцы считали число основой всего сущего, источником гармонии мироздания, а все качественные свойства вещей сводили к математическим (числовым) отношениям.
*144 Неоплатоники – Плотин (ок. 204/205 – 269/270), Порфирий (234 – между 301 и 305), Прокл (412–485). В иерархии универсума, по мнению Плотина, число занимает промежуточное положение между Единым и возникшим в процессе эманации из Единого умом.
*145 Неопифагорейцы – Нигидий Фигул, Аполлоний Тианский, Никомах Герасский и др. (I в. до н.э. - III в. н.э.) стремились соединить учение стоиков с платоновско-аристотелевским дуализмом при помощи числовой символики пифагорейцев. В центре их построений – противопоставление единицы (начала всякого порядка, блага, Божества) и двоицы (начала несовершенства, беспорядка, материи как источника всякого зла). Считая, подобно пифагорейцам, что все в мире построено по числовым отношениям, они, идя от Платона, отождествляли числа с идеями и рассматривали их как посредствующие звенья между Богом и миром.
*146 Гностики – представители гностицизма, религиозно-философского течения поздней античности и средневековья, возникшего в I в. н.э. и стремившегося к синтезу христианства с восточными верованиями и греческой философией. Гностики учили о всеобъемлющем знании, достигнув которого человек преодолеет разорванность, дисгармоничность и мира, и себя самого.
*147 Каббала – мистическое течение в иудаизме. Разделялась на умозрительную и прикладную. Согласно умозрительному учению каббалы, изложенному в «Книге творения» (между III–VIII в. н.э.), самооткровение Божества, энсофа, совершается путем эманации им 32 «путей премудрости» (десяти цифр, или сфер (сефирот), и 22 букв еврейского алфавита).
*148 Агриппа Неттесхеймский (1487–1535) – германский философ-мистик, по мировоззрению близкий неоплатонизму. Стремился сочетать мистицизм и магию с христианством.
*149 Люллий (1235–1315) – средневековый поэт, философ и миссионер. Будучи убежден, что истина – одна, как для веры, так и для разума, боролся с аверроистами, утверждавшими, что истинное по вере может быть неистинным по разуму. Согласно средневековому реализму признавал самостоятельное бытие общих понятий (universalia), считал, что действительность есть осложнение этих общих понятий путем их различных комбинаций и что разум, улавливая логическую связь понятий, может постигнуть действительную связь вещей.
*150 Пико делла Мирандола (1463–1494) – итальянский ученый и философ. Глубоко занимался изучением неоплатонизма и каббалы, результатом чего явились его «900 тезисов» из разных областей знания, обнародованные в 1486 г.
*151 Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, физик и физиолог. Заложил основы аналитической геометрии, ввел многие алгебраические обозначения. Математику понимал как всеобщий метод познания-конструирования мирового механизма.
*152 Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик и изобретатель. Выдвигал тезис о «сводим(?сти математики к логике», согласно которому математика изучает так называемые аналитические истины, т.е. утверждения, «истинные во всех возможных мирах».
*153 Кеплер Иоганн (1571–1630) – немецкий астроном, открыл законы движения планет.
*154 Лагранж Жозеф Луи (1736–1813) – французский математик и механик, занимался проблемами математического анализа, теории чисел, алгебры и пр.
*155 Лаплас Пьер Симон (1749–1827) – французский астроном, математик, физик. Автор трудов по теории вероятностей и небесной механике, дифференциальным уравнениям, математической физике.
*156 Конт Огюст (1798–1857) – французский философ, основоположник позитивизма и социологии. Представленная им в «Курсе позитивной философии» (1830–1842) классификация наук на первое место ставит математику как наиболее общую и широкую по объему, простую по содержанию, от нне же в иерархическом порядке он располанает все прочие области знания. Именно математика, по мнению Конта, исторически перваЯ стала положительной наукой.
*157 Кантор Георг (1845–1918) – немецкий математик, разработал теорию бесконечных множеств и теорию трансфинитных чисел.
*158 Всеобщую математику (лат.).
*159 Представители этапа в развитии математической логики, связанного с работами школы Б. Рассела (1872–1970). (См. написанный им в соавторстве с А. Уайтхедом трехтомный труд «Principa Matematica» (1910–1913).
*160 Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни.
*161 Учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения, о возможности активного влияния на эволюцию человечества в целях совершенствования его природы.
*162 Политическая и иная разобщенность, раздробленность.
*163 Человеком творящим (лат.).
*165 Бахметьев Прфирий Иванович (1869–1913) – русский физик и биолог, исследовал влияние переохлаждения на организм человека, впервые вызвал эксперментально анабиоз у насекомых, рыб, летучих мышей с последующим восстановленнием их нормальной жизнедеятельности. {Бол}.
*166 Воронцов Даниил Семенович (1886–1965) – русский физиолог, занимался фундаментальными проблемами физиологии нервной деятельности и электрофизиологии.
*167 Кольцов Николай Константинович (1872–1940) – русский биолог, занимался физико-химической биологией и генетикой, основоположник экспериментальной биологии в России, организатор Института экспериментальной биологии.
*168 Кравков Сергей Васильевич (1893–1951) – русский физиолог и психофизиолог, ученик П.П. Лазарева; занимался физиологией зрения.
*169 Прут Вильям (1785–1850) – английский химик и врач. Данная гипотеза была высказана им анонимно в «Annals of Philosophy» за 1815 г.
*170 Томсон – см. примеч. * к с. 76.
*171 Бор Нильс Хенрик Давид (1885–1962) – датский физик, создал теорию атома, основанную на планетарной модели и квантовых представлениях.
*172 Резерфорд Эрнст (1871–1937) – английский физик, занимался строением атома.
*173 См. сноску на с. 71.
*174 Каразин Василий Назарович (1773–1842) – общественный деятель и ученый. Главные его интересы лежали в области метеорологии. Выступил с конкретными проектами управления погодой.
*175 Паттен Вильям (1861–1932) – американский биолог и палеонтолог, свои эволюционные идеи изложил в книгах «Эволюция позвоночных и их родство» (1912) и «Великая стратегия эволюции. Социальная философия биолога» (1920).
*176 Гекслей, Гексли (Hexley) Томас Генри (1825–1895) – английский естествоиспытатель, соратник Ч. Дарвина и популяризатор его учения.
*177 Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) – русский ученый-географ, путешественник. В работе «Взаимная помощь как фактор эволюции» утверждал, что все биологические формы жизни основываются на взаимной помощи, солидарности особей.
*178 (От греч. παν – всё, κρατέω – быть мощным, обладать силой, повелевать.) Власть над всем.
*179 Печатается в сокращении по: Остромиров А. Николай Федорович Федоров и современность. Вып. 3. Организация мировоздействия. Харбин, 1932.
*180 Фрейд Зигмунд (1856–1939) – австрийский врач-психиатр, невропатолог, психолог, основоположник психоанализа – учения, ставящего в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации и рассматривающего вытеснение из сознания неприемлемых для него влечений, а также душевных травм, как главный источник неврозов и разного рода патологий.
*181 Так называется работа 3. Фрейда (1920), посвященная анализу двух родов влечений: созидательного, творческого влечения к жизни и деструктивного, зовущего к хаосу и небытию «инстинкта смерти».
*182 Федоров Н.Ф. Философия общего дела... Т. 1, Верный, 1906. С. 9.
*183 Имеется в виду созданная 3. Фрейдом школа психоанализа.
*184 Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945) – писатель, врач. Опубликованные в 1901 г. «Записки врача» принесли ему большую известность.
*185 Цитата из статьи Н.Ф. Федорова «Горизонтальное положение и вертикальное – смерть и жизнь // Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. 2. М., 1913. С. 267.
*186 Шпенглер Освальд (1880–1936) – немецкий философ, историк, представитель философии жизни. В книге «Закат Евроры» развил учение о сменяющих друг друга «организмах» культуры. Западную культуру он определял как культуру фаустовскую, которая – согласно общему закону развития культур – ныне вырождается в цивилизацию. Отсюда и тезис о том, что «роль художника кончена».
*187 Речь идет о судьбе трагически погибшего С.А. Есенина (1895–1925). А. Горский цитирует его стихотворение «Русь советская» (1924).
*188 А. Горский имеет в виду две полярные теории искусства: «искусство для искусства» – концепцию, утверждающую самоцельность художественного творчества, независимость искусства от политики, общественных требований, злобы дня (сформировалась в середине прошлого века во Франции у представителей школы «парнасцев», в Англии – у А. Суинберна и затем О. Уайльда, в России – у А. Дружинина, В. Боткина, П. Анненкова), и так называемую утилитарную концепцию искусства, особенно актуальную для русской революционно-демократической критики (Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев) и возрожденную в 20-х гг. нашего века в теориях Пролеткульта, манифестах РАППа и т.д.
*189 Эта идея легла в основу работы А. Горского «Огромный очерк» (1924).
*190 В статьях Н.Ф. Федорова много внимания уделено проблемам немецкой эстетики, обратившейся в лице философов Артура Шопенгауэра (1788–1860), Фридриха Ницше (1844–1900), композитора Рихарда Вагнера (1813–1883) к проблемам синтеза искусств. Музыкальной драме Вагнера, впитавшей в себя темное, дионисийское начало (именно его Ницше усматривал в основе бытия), и в наиболее ярком своем проявлении – тетралогии «Кольцо Нибелунгов», изобразившей гибель богов и героев, крушение мироздания, Федоров противопоставляет иной, созидательный синтез искусств – храм. Трагедии, высшая задача которой, по слову Ницше, «как одно целое пойти навстречу предстоящей гибели с трагическим умонастроением», Федоров противопоставляет литургию, понимаемую как дело всеобщего спасения. В федоровском плане проблему синтеза искусств рассматривал и Горский в статьях «Германизм и музыка» (1915), «Окончательное действие» (1916), а также в данной работе.
*191 Имеется в виду теория Ф. Ницше («Происхождение трагедии из духа музыки», 1872).
*192 В христианской символике Христос – «агнец Божий»; трагедия же в переводе с греческого буквально означает «козлиная песнь» и происходит от древних дионисических, оргиастических культов (культа Диониса, в свите которого были сатиры, лесные божества с козлиными ногами).
*193 Цитата из статьи Н.Ф. Федорова «Трагическое и вакхическое у Шопенгауэра и Ницше» // Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. 2. С. 151.
*194 Горский здесь использует следующий отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Осень» (1833):
|
Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться, наконец, свободным проявленьем... |
*195 Цитата из статьи Н.Ф. Федорова «Как может быть разрешено противоречие между наукою и искусством» (см. ее в настоящей антологии).
*196 См. об этом статью Н.Ф. Федорова «Как может быть разрешено противоречие между наукою и искусством».
*197 Имеются в виду конструктивистские концепции искусства, в частности теория «искусства жизнестроения», развиваемая в 20-е гг. литературио-художественным объединением «Левый фронт искусств» (Леф).
*198 Ле-Дантек Феликс (1869–1917) – французский биолог, сторонник учения Ж.-Б. Ламарка, философ. Развивал учение о всеобщей изменчивости, связи, приспособлении как основе бытия природы и человека. Главный принцип связи и приспособления выводил из явления ритмической вибрации в твердых телах, приводящей к «ассимиляции» («коллоидному резонансу»). В искусстве, по мнению Ле-Дантека, принцип приспособления, «функциональной ассимиляции» выражается в имитации – подражании формам, звукам, явлениям внешнего мира.
*199 Имеется в виду творчество композитора Александра Николаевича Скрябина (1871/72–1915). В его симфонических произведениях «Поэма экстаза», «Прометей», «Предварительное действие», которые сам композитор считал фрагментами, частями одной грандиозной «Мистерии», музыкального синтетического действа, Горский видел попытку выхода из тупика германского синтеза искусств.
*200 Сосредоточенное, благоговейное, соединенное с хранением ума, трезвением, очищением сердца, непрестанное упражнение в молитве Иисусовой. Практика умного делания введена на рубеже IV-V вв. подвижниками Саввой Евагрием, Исихием Иерусалимским, Иоанном Лествичником.
*203 Тейлор Ф.У. (1856–1915) – американский инженер, предложивший систему организации производства, основанную на максимальном повышении интенсивности труда за счет предельного разделения операций, рационализации трудовых движений.
*204 Оствальд Вильгельм Фридрих (1853–1932) – немецкий физик и химик, философ.
*205 Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – русский востоковед, индолог.
*206 Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) – русский геохимик и минералог; ученик В.И. Вернадского.
*207 А. Горский цитирует работу инженера Сергея Александровича Бекнева «Гипотеза о нервной энергии и ее значение в деле образования рабочих коллективов максимальной производительности труда» (М., 1923).
*209 Вейль Герман (1885–1955) – математик, автор трудов по теории функций, чисел, теории групп.
*210 Эйнштейн Альберт (1879–1955) – физик-теоретик, создатель теории относительности.
*211 Речь идет об опере Р. Вагнера «Парсифаль» (1882).
*212 Неточная цитата из стихотворения Афанасия Фета (1820–1892) « Измучен жизнью, коварством надежды...».
*213 Имеется в виду следующий текст Откровения: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божий. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых» (гл. 15, 2-3).
*214 Гипотеза о возможном влиянии свойств мужской особи, участвовавшей в предыдущем скрещивании с женской особью, на ее потомство, полученное от скрещивания с другими мужскими особями.
*216 Павлов Иван Петрович (184»–1936) – русский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности.
*217 См. работу П.А. Флоренского в настоящей антологии, а также примечания к ней.
*218 Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. 1. С. 344-345.
*220 Представление богов в образе животных.
*222 Монофизитский уклон в христианстве возник в V в. н.э. в период христологических споров. Сущность его в том, что во Христе признается преобладающей одна божественная природа, человеческая же природа, воспринятая Богом-Словом по воплощении, становится только принадлежностью Его божества, теряет собственную силу и действенность. Монофизитская ересь была осуждена церковью на IV Вселенском соборе, утвердившем соединение двух природ во Христе «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». В таком определении Горский видел обоснование того, что человеческая природа способна всецело обо́житься, восприять Божество, что человечество может и должно быть активным в деле спасения.
*224 «Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Иоан. 21, 25.
*225 Вхождение ума в сердце, происходящее в результате сочетанного, молитвенного усилия сердца и ума – один из центральных моментов в практике умного делания.
*226 Горский использует здесь терминологию Ницше, делившего искусства на дионисийские (воплощающие в себе оргиастическое начало, начало исступления и экстаза) и аполлоновские (несущие в себе созерцательность, пластичность, упорядоченность, гармонию). Переплетение и борьба этих двух начал составляют, по Ницше, историю искусства. Для Горского противоречие дионисизма и аполлонизма, особенно ярко выразившее себя в трагедии, должно быть разрешено в литургическом синтезе искусств, направленном к реальному преображению мира и человека.
*227 Первая глава вводной части книги «О конечном идеале» (Харбин, 1932). В настоящей антологии дается один из вариантов текста, предоставленный дочерью мыслителя Е.Н. Борковской из ее архива.
*228 Работа Павла Ивановича Новгородцева (1866–1924), юриста, социолога, философа, «Об общественном идеале» печаталась в журнале «Вопросы философии и психологии» с 1911 по 1917 г. Отдельным изданием вышла в Москве в 1917 г. Затем дважды была переиздана: в 1918 г. в Киеве и в 1921 г. в Берлине с некоторыми добавлениями.
*229 Руссо Жан Жак (1712–1778) – французский писатель и философ, один из деятелей французского Просвещения XVIII в. Создал теорию «общественного договора», согласно которой каждый член общества отдает себя под верховное руководство общей воле, выраженной в народе и государстве. Цель общественного договора: найти такую формулу ассоциации, чтобы каждый, будучи соединен со всеми, тем не менее не терял личной свободы.
*230 Кант Иммануил (1724–1804) задачей человеческого рода считал достижение всеобщего правового гражданского состояния: «вечного мира» между государствами путем развития международного общения и торговли [см. «Идеи всеобщей истории» (1784), «О вечном мире» (1795)].
*231 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) в «Философии права» (1821), лекциях по философии истории и философии религии представлял принцип конституционной монархии современного ему прусского государства как наиболее совершенную форму социального устройства, протестантизм – как высший тип христианства.
*232 Конт Огюст (1798–1857) в своей «Системе позитивной политики» (1851–1854) провозгласил новую положительную «религию человечества», основанную на культе «Великого существа» – человечества в его живом единстве, и подробно описал новую организацию общества – социократию, устроенную по принципу обязанности, а не права.
*233 Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, основоположник органической школы в социологии. Вслед за Сен-Симоном установил военный и промышленный типы организации общества и рассматривал социальную эволюцию как движение от одного типа к другому. Идеальным считал такое общество, в котором при наличии минимума управления будет максимум свободы личности.
*234 Маркс Карл (1818–1883) разработал учение о смене общественно-экономических формаций, согласно которому историческое развитие приводит к смене капиталистической формации коммунистической.
*235 В основе ригористической традиции этики лежит идея об извечном конфликте между естественной человеческой склонностью и долгом, практическим расчетом и возвышенным мотивом. На этом постулате построены, в частности, системы стоиков (так, Эпиктет (ок. 50 – ок. 140) считал, что высшим проявлением свободы человека является следование божественному закону, разумной необходимости), Канта, отделившего нравственный долг от чувства и провозгласившего основным законом этики формальное внутреннее повеление, категорический императив, Фихте (1762–1814), решавшего антиномию свободы и необходимости в духе стоицизма; человек и будучи свободным, и будучи несвободным одинаково действует в соответствии с необходимостью: в первом случае – сознательно, во втором – бессознательно и пассивно.
*236 Реминисценция из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (см. «Легенду о Великом инквизиторе»).
*237 Печатается с небольшими сокращениями по: Циолковский К.Э. Монизм Вселенной. Калуга, 1925 (изд. автора).
*238 Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) – нидерландский философ-рационалист, пантеист.
*239 Представление о всеобщей одушевленности природы. Для Циолковского это прежде всего способность ощущения, присущая всей живой и неживой природе, всем элементам мира.
*240 Движение органов растения (стебля, корня, листьев), которое обусловлено направленным действием какого-либо раздражителя – света, силы земного тяготения и др. Под тропизмом у «низших существ» Циолковский, вероятно, имел в виду так называемый таксис, т.е. направленное движение простейших животных и свободно живущих низших растений и спор растений, являющееся реакцией на определенные раздражители.
*241 Способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете единой основы (субстанции) всего существующего.
*242 Ламарк Жан Батист (1744–1829) – французский естествоиспытатель, предшественник Дарвина, создатель первого целостного эволюционного учения.
*243 Статья печатается с небольшими сокращениями по: Циолковский К.Э. Грезы о Земле и небе: Научно-фантастические произведения. Тула: Приокское кн. изд-во, 1986.
*244 Статья (без последней XIX главки) печатается по первому ее русскому изданию: Вернадский В.И. Биогеохимические очерки. М., 1940 – с добавлением ряда пропущенных тогда мест из первой публикации на французском языке в «Revue générale des Sciences» (Paris, 1925).
*245 Квадратура круга, трисекция угла – две знаменитые задачи древности (построение квадрата, равновеликого данному кругу, и разделение угла на три равные части), над которыми безуспешно бились столетиями. В XIX в. доказана невозможность их решения при помощи циркуля и линейки. Столь же нереальными оказались поиски perpetuum mobile (вечного двигателя) и философского камня – некого препарата для превращения неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира бессмертия и т.д.
*246 Кавендиш Генри (Хенри) (1731–1810) – английский химик и физик.
*247 Лавуазье Антуан-Лоран (1743–1794) – французский химик.
*248 Пристли Джозеф (173Э–1804) – английский философ, химик, физик.
*249 Соссюр Никола Теодор (1767–1848) – швейцарский натуралист. Экспериментально доказал, что растение в процессе дыхания поглощает кислород и выделяет углекислоту, а на свету усваивает углерод углекислоты и выделяет кислород.
*250 Ингенгауз (Ингехауз) Ян (1730–1799) – голландский естествоиспытатель и врач.
*251 Буссенго Жан Батист (1802–1897) – французский химик, один из основателей современной агрохимии.
*252 Дюма Жан Батист Андре (1800–1884) – французский химик.
*253 Либих Иоганн Юстус (1803–1873) – немецкий химик, выдвинувший в 1840 г. теорию минерального питания растений.
*254 Пфеффер Вильгельм Фридрих Филипп (1845–1920) – немецкий ботаник-физиолог, занимался проблемами энергетики и обмена веществ у растений.
*255 Виноградский Сергей Николаевич (1856–1953) – микробиолог.
*256 Брентано Луйо (1844–1931) – немецкий экономист.
*257 Человек разумный, производящий орудия (лат.).
*258 Сен-Симон Клод Анри (1760–1825) – французский мыслитель, социолог, социалист-утопист.
*259 Годвин (Годуин) Уильям (1756–1836) – английский писатель, автор трактата «Рассуждение о политической справедливости», развивавший утопический проект социалистической ориентации. Оказал влияние на Р. Оуэна.
*260 Оуэн (Оуен) Роберт (1771–1858) – английский утопический социалист.
*261 Бертло (Бертело) Пьер Эжен Марселен (1827–1907) – французский химик, проводил успешные опыты синтеза органических соединений.
*262 Печатается по: Успехи биологии. М., 1944.
*263 Первая глава книги А.Л. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь», написанной ученым по-французски и опубликованной в Париже в 1937 г. В 1973 г. книга вышла на родине в переводе, сделанном вдовой Александра Леонидовича, его самым близким другом и помощником.
*264 Связанная с взрывами, выбросами энергии и вспышками.
*265 Печатается в сокращении по: Холодный Н.Г. Избр. труды. Киев, 1982.
*266 Гёффдинг Харальд (1843–1931) – датский философ-идеалист, историк философии.
*267 Закон соотносительности развития (соотношения развития), установленный Дарвином в его теории естественного отбора, утверждает существование скрытой связи между отдельными органами, частями организма, вследствие чего изменение одного органа сопровождается изменением другого. Этот закон связан с другой, открытой еще до Дарвина закономерностью: развивая одну часть или функцию организма, природа соответственно уменьшает другую.
*268 Печатается по: Лит. газ. 1968 (№ 49). 4 дек.
*269 Речь идет о дискуссии, проведенной на страницах «Литературной газеты» 21 августа 1968 г. (Поводом для нее послужило сообщение газеты «Санди Тайме» об успешных опытах, проведенных в США, по значительному увеличению продолжительности жизни мышей.) Доктор медицинских наук В. Бурановский защищал традиционные медицинские методы продления человеческой жизни (искоренение болезней, улучшение условий труда и жизни). Биолог Л.В. Комаров, один из энтузиастов создания широкого фронта борьбы за радикальное увеличение видовой продолжительности жизни человека и его практическое бессмертие, выдвигал необходимость биологических способов направленного воздействия на механизмы старения, на генетическую систему, наследственность.
*270 Неточная цитата из стихотворения английского поэта Джона Донна (1572–1631), взятая в более полном объеме в качестве эпиграфа к известному роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940).
*271 Вейсман Август (1834–1914) – немецкий зоолог и эволюционист, создатель теории «неодарвинизма».
*272 Печатается по: Человек: Философские аспекты сознания и деятельности. Минск, 1989.
*273 Пенфилд Уайлдер Грейвс (1891–1976) – канадский невролог и нейрохирург.
*274 Сведенборг Эмануэль (1688–1772) – шведский ученый и теософ-мистик.
*275 Покровский собор что на рву. Василий Блаженный (ум. 1552) – русский святой, Христа ради юродивый. В Степенной книге есть рассказ о том, что летом 1547 г. Василий долго и слезно молился в Вознесенском монастыре на Остроге (Воздвиженке). Это явилось предвестием пожара, который вспыхнул на другой день именно в этом монастыре и испепелил Москву.
*276 Гераклит (ок. 520 – ок. 460 до н.э.) – древнегреческий философ, высказавший идею непрерывного изменения, становления. Считая началом всего сущего огонь, определял душу как смесь воды и огня, благородного, мудрого и низменного начал.
*277 Демокрит (ок. 470 или 460 до н.э. – год смерти неизвестен) – древнегреческий философ-материалист, атомист. Считал, что именно душой все живое отличается от неживого. Душу понимал как особое расположение сферически подвижных атомов, подобных атомам огня.
*278 Эпикур (341–270 до н.э.) -древнегреческий философ. Восприняв атомистическое учение Демокрита, определял душу как состоящую из особо тонких и рассеянных по всему телу атомов.
*279 Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – русский писатель и философ. В философском трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» (написан в 1792 г., опубликован в 1809 г.) сталкивает два воззрения на природу души: согласно первому – душа обладает вещественной природой и умирает вместе с телом, согласно второму – душа бестелесна и сохраняется после смерти.
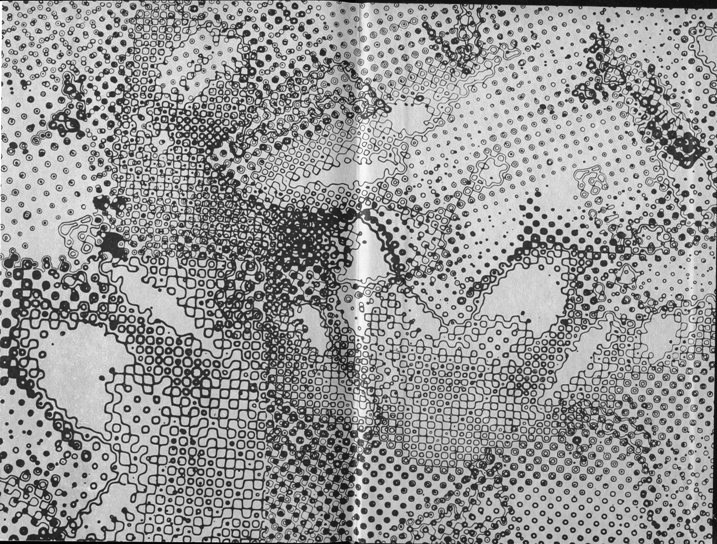
Горский, Александр Константинович (1886–1943), русский философ, поэт, последователь учения Н.Ф. Федорова. Выпускник Московской академии. Жил и вел интенсивную обществено-литературную и философскую жизнь в 1910–20-е гг. в Одессе, затем в Москве. В 1929 был репрессирован, после освобождения в 1937 жил в Калуге, в 1943 вторично арестован, погиб в тюрьме в Туле. Автор работ «Огромный очерк» (1924), «Смертобожничество» (Харбин, 1926; в соавторстве с Н.А. Сетницким), серии очерков «Николай Федорович Федоров и современность» (ч.1-4, Харбин, 1928–1932), «Преодоление Фауста» (1937). | 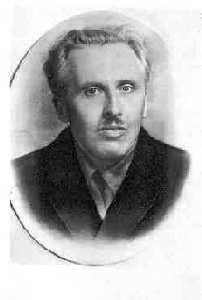
|
Петерсон, Николай Павлович (1844 – 4 [17] марта 1919), ученик и последователь Н.Ф. Федорова, один из редакторов и издателей его сочинений, автор книги «“Философия общего дела” в противоположность учению Л.Н. Толстого о “непротивлении” и другим идеям нашего времени» (Верный, 1912), ряда статей и неопубликованных воспоминаний.
Сетницкий, Николай Александрович (1888–1937), русский философ и экономист, последователь учения Н.Ф. Федорова, автор ряда работ о нем, а также большого философского исследования «О конечном идеале» (Харбин, 1932). Репрессирован и расстрелян. | 
|